Грусть, пронизывающая как мелкий осенний дождик, овладела ими при виде этого мрачного пейзажа. Вокруг них подымался, словно тучи, густой дым пятисот парижских фабрик и портил ясный летний вечер.
Карета, проехав длинную, пустынную улицу, где фонари были зажжены только с одной стороны тротуара, миновав бульвары, въехала, наконец, в темный, оживленный квартал северной и южной железных дорог. Морис за спущенной шторой не мог видеть лица своей любовницы; оно мелькало перед ним только тогда, когда рефлектор или фонарь бросал беглый луч в карету; он видел, что по этим похудевшим щекам не переставая текли слезы. Он обнял ее, поцеловал; он дышал ее дыханьем, пил ее слезы. Но у него не хватало смелости произнести слова сожаления, готовые сорваться с его языка:
- Не плачь; я остаюсь, я твой.
Его особенно ужасала мысль о том страшном отчаянии, которое она испытает, когда он ее оставит… Конечно, она упадет без чувств на платформе, как только тронется поезд.
- Жюли… Не надо идти на дебаркадер со мною… Тебе надо вернуться до моего отъезда, дорогая… Это было бы слишком тяжело!
Она была не более, как плачущей вещью, без воли, без сил; она повиновалась. Оба вышли из экипажа. Они только раз поцеловались; это был поцелуй рассеянных родственников, расстающихся на один день. Жюли пересела в другой фиакр и тотчас же уехала по улице Дункерн… А Морис, между тем, смотрел на эту карету, уносившую ту, которая была для него дороже всего на свете. «Как, это кончено? Так скоро? Так скоро?»… Уезжая, она даже не сделала ему прощального приветствия. Тогда он почувствовал, что что-то, такое же решительное как смерть, отделило его от окружающей жизни. Надо было, чтобы к нему подошли кондуктора и напомнили, что необходимо сделать последние приготовления к отъезду. В нем оставалось только одно сознательное желание, поскорее лечь, остаться одному в своем купе и там, без свидетелей, отдаться своему страданию, плакать и страдать наедине с самим собою.
И поезд уносил его, качал всю ночь по обширным долинам Фландрии и прирейнских провинций; ни разу сон не смыкал его глаз, чтобы облегчить его хотя бы временным забвением.
В Кельне ему пришлось пересесть на другой поезд, так как он, положительно, не хотел остановиться. Наступало утро; погода стояла неопределенная, без солнца и без приближавшегося дождя. Это туманное небо было ему по душе; ликующая природа раздражала бы его. Вокруг него, в новом вагоне, говорили на незнакомом ему языке. Уединение также было приятно ему…
Этот длинный путь вдоль берегов Рейна, то веселых, то грустных, согласно тому, улыбается или хмурится им солнце, принес ему первое успокоение. Прислонясь к окну, он смотрел на зеленые воды реки, на долины, усеянные виноградниками, на узкие линии деревень. Он не мог бы сказать, нравятся ли ему цвета горизонта и пейзажи, но, во всяком случае, эта картина успокоительно действовала на нервы. Он все еще страдал, но, измученный пережитым, он не знал, отчего именно страдает… Что-то было резко оторвано от него, вот и все. Он чувствовал горе от разлуки с кем-то, но не сумел бы сказать, кого ему недостает - Жюли или Клары. Скоро он должен был убедиться, что его изуродованной жизни недостает ни Жюли и ни Клары, а женщины, дорогого женского присутствия, теплоты ее груди.
Около часу пополудни он вышел в Франкфурте. Он позавтракал в кафе Казино. Новая страна начинала его развлекать. Ему казалось, что вчерашний Морис умер; он перешел в кого-то другого, в какого-то бездушного манекена, у которого случайно оказалось что-то общее с его собственной душой. С этим чувством он ходил, смотрел, ел, посетил музеи, любовался монументами. Перед вечером он очутился на станции железной дороги; он увидал над одной из дверей надпись: «Гамбург», вскочил в вагон, уехал… Поезд был полон путешественников; почти все разговаривали по-английски. Морис понял, несколько слов, и это вторжение чужой мысли в его собственные мысли было ему неприятно. Он сделался какой-то, в высшей степени деликатной, чувствительной вещью.
В гостинице, куда его привезли с железной дороги, он наскоро выпил чашку бульону и лег. Его спутанные мысли убаюкали звуки музыки, долетевшей из парка кургауза… Он уснул. С той минуты, когда он видел исчезающую перед собой Жюли, он не выходил из состояния какой-то тяжелой грезы, почти такой же непробудной, как сон.
Он проснулся поздно, с пустой головою. Он стал смотреть на эти четыре стены меблированной комнаты, с кроватью оригинальной формы, со столом, шкафами и предписаниями на трех языках, висевшими на двери. Все это была Германия, это была разлука, это была добровольная рана, нанесенная им своему сердцу.
- Как! Я здесь… В Гамбурге… Я! Я!… Да ведь это сумасшествие! Что я буду здесь делать? Зачем я уехал? Это ужасно быть одному… Клара… Жюли… Я их бросил, бессмысленно бросил? И зачем? Боже мой, зачем?
Он понял всю бесполезность этого путешествия. Все, чего он боялся, все, что было для него хуже смерти, все это случится в его отсутствии. Клара, хоть бы и любила его, решится выйти замуж, раз он уехал, между тем, как если б он остался, то она быть может отказала бы в последнюю минуту… «И потом уехать на месяц, на два месяца, на год, это хорошо… А что же после? Разве не придется когда-нибудь вернуться, увидеть тех, кому я доставлял страдания и от кого сам страдал?… Разве тогда жизнь будет сноснее? Все будет определено… Я буду жить неопределенным, неизбежным… Не лучше ли было бы остаться там, подчиниться медленному течению обстоятельств и в тоже время дать им переделать себя так, как они переделают других?»
Он старался разбить эти мысли, как неприятельский редут. «Однако, - говорил он себе, - умно или глупо я поступил, но я приехал сюда для того, чтобы удалиться от присутствия тех, которые меня мучили. Надо пользоваться, по крайней мере, хоть этим удалением и попробовать взять себя в руки. Надо испытать курс забвения».
Он одевался, стараясь заинтересовать свой ум новизной местности. Он вспомнил свой приезд в Париж, после смерти матери.
«Тогда я также был грустен, я потерял все, что любил и не хотел больше жить. А однако же, я снова втянулся в жизнь».
Но какой-то голос отвечал ему:
«Тогда ты был на шесть лет моложе, тогда ты верил в будущее, в любовь, в искусство… Теперь все это кончено».
Он не хотел слушать этот безнадежный голос.
«Гамбург - веселое местечко. Здесь есть блестящий кургауз, прогулки, театр… Здесь можно лечиться. На это всегда можно убить часа четыре в день».
Эти противоречивые увещания самого себя вызвали грустную улыбку на его губах. Он уже сознавал, что время здесь будет тянуться медленнее и бессодержательнее, чем в Париже. В таком случае, к чему же это усилие, мучения этого отъезда? Он снова представлял себе слезы Жюли, текущие по бедному, нежному лицу, трепет этого тела, когда-то обожаемого и увы! - обожаемого еще и теперь, несмотря на все.
«Ах, я несчастнейший человек! Я умею только делать зло вокруг меня, особенно тем, кто меня любит!»
Он спустился в столовую. Яркие солнечные лучи играли на стенах, выкрашенных в светлый цвет, на монументальной печке из зеленых изразцов, на белоснежных скатертях и блестящем хрустале. Несколько одиноких путешественников, несколько английских или американских семейств завтракали со спокойным, довольным видом. Морис, как и накануне, чувствовал себя совсем чужим этим людям, пловцом, выброшенным волною на берег неведомого острова.
«Я один! Совсем один!»
Внутреннее рыдание всколыхнуло его грудь. Теперь он навсегда останется один в жизни, как прежде до встречи с Жюли. Воспоминание о мучительных месяцах, предшествовавших его встрече с этой женщиной, вновь восстало перед ним, несмотря на то, что это было давно, это воспоминание было также тяжело, как теперешняя грусть. Он не хотел поддаваться ему.
«Эта тоска, - думал он, овладела мною оттого, что я за границей, в гостинице, оттого, что я здесь проезжий… Еще два обеда за табльдотом и я познакомлюсь с другими путешественниками, если захочу… познакомлюсь с женщинами».
Но ему тотчас же что-то кольнуло в сердце.
«О, нет, никогда больше… Больше не будет ни одной женщины в моей жизни!…»
Все уже разошлись, когда он пришел в себя. Он, не отдавая себе в том отчета, выпил чашку черного кофе, позабыв влить в нее молока. Он покраснел под взглядом гарсона, как будто этот человек был ироническим зрителем его душевной борьбы. Он быстро встал, спросил адрес местного доктора, знающего французский язык. Ему дали адрес. Не расспрашивая дороги, он вышел, пошел на авось, почти сейчас же очутился в тенистой аллее вязов и направился по ней.
Направо тянулся бесконечный парк, поддерживаемый как сад, с группами деревьев, фонтанами, густым политым газоном; сквозь чащу листвы виднелись башенки вилл, солнечные лучи, отражаясь в брызгах фонтанов, напоминали собою бриллиантовый дождь. Поливальщики оканчивали свою работу и смоченная земля испускала на солнце легкий пар…
Налево от аллей тянулись красивые дома, отделенные друг от друга маленькими площадками; они были построены в стиле рококо, с дугообразными окнами, верандами, балконами, террасами, где утренний ветерок колыхал полосатые драпировки. Морис видел выходивших худеньких девочек, босоногих розовых, мускулистых детей, сильных молодых людей в белых фланелевых куртках, и надвинутых на глаза фуражках. Их веселое оживление было неприятно Морису.
«Сейчас видно, - думал он, - что эти люди счастливы или, по крайней мере, равнодушны. Они идут по дороге жизни, как я иду по этой аллее; они уверены почти в каждом своем шаге. Они будут завтракать, играть в теннис, болтать с этими хорошенькими женщинами. Молодые люди женятся на этих свеженьких молодых девушках, сделаются, в свою очередь, отцами здоровых детей, вот как эти; их существование будет длиться изо дня в день, без выдающихся фактов, не считая неизбежных болезней, материальных неудач, трауров… Неужели я, такой страдающий человек, представляю исключение? В моей настоящей жизни нет даже ни траура, ни денежных потерь, ни болезни. Ах, конечно, их сердце не похоже на мое! Все мое страшное несчастие заключается в моем сердце и старания всего мира не могли бы сделать меня похожим на них!…»

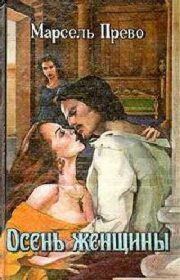
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.