Он не посмел окончить своей мысли; а между тем он искал уже аргументов, чтобы убедить себя.
Они пешком вернулись на виллу. Луны еще не было, но ее появление угадывалось по бледнеющему небу, там, за сосновым лесом, в стороне Гамбурга. Они шли медленно; Морис просунул свою руку под руку Жюли. Когда они проходили по горному хребту, мимо отверстия, выходившего на равнину Франкфурта, она показалась им совсем иною, побелевшей от невидимой луны, усеянной огоньками.
- Посмотри… - сказала Жюли. - Море!…
Это была правда… Можно было подумать, что это безбрежное море, освещенное там и сям корабельными фонарями. Вечерние тени перерождали пейзаж и живописный горизонт превращали в фантастическую декорацию.
Они долго любовались им, прижавшись друг к другу. Поэзия этой ночи очаровывала их, молодила их влюбленные сердца, делала их готовыми отдаться друг другу, как в лучшие дни их любви… Дневной шум умолкал, но в окнах соседних вилл еще светились огоньки. Кому давали пристанище эти дома, стоявшие так близко к их дому? Равнодушным к ним людям, которых они никогда не видели, людям, чьи нравы, мысли, даже язык были им чужды. Земля, по которой они ступали, не была их землею; они были связаны с этой почвой, с этим небом, с этим пейзажем случайными узами, которые завтра же могут порваться. Они были здесь не более, как одинокие прохожие, которых никто не знает; но они были одиноки вдвоем, каждый из них чувствовал, что, несмотря на все, они любят один другого больше всего на свете. Будущее могло их разлучить, доставить им страданье, - пусть, у них всегда останется их высокая нежность; они всегда будут помнить, что даже накануне катастрофы, заглянув друг другу в сердца, они видели, что очень любят один другого.
Теперь группы деревьев, становившиеся все более и более темными на светлеющем фоне неба, казались гигантскими мысами, завершавшимися фантастическими скалами. Словно волшебный океан раскинулся полог неба, с бледными светилами. Электрические фонари, видневшиеся на горизонте, казались далекими маяками. Морис и Жюли дошли до виллы. Да, они действительно были путешественниками по этому морю грез, случайность, как буря, выкинула их на этот берег и, погибая, вместе они видели друг в друге целую родину. Трудно сказать, какая мысль навевала им серьезность в этом уединении. Они разделись, легли рядом в настроении высокой, чистой нежности, и поцелуй, которым они обменялись в эту первую ночь на чужбине, был самым чистым поцелуем в их жизни.
На другой день их разбудило свежее, яркое утро. Солнечные лучи, пробившись сквозь приоткрытые жалюзи, играли у подножья обеих кроватей.
Они улыбнулись друг другу; их руки встретились: это спокойное пробуждение удивляло и восхищало их. Кто увидел бы их час спустя, пивших на террасе виллы утренний чай, и разговаривавших как муж с женой, тот не в состоянии был бы подозревать, какие муки вытерпели эти два существа друг из-за друга и беспокойство, не покидавшее их даже теперь. Беспокойство? Да, несмотря на все, они чувствовали тайное беспокойство, как выздоравливающий, который боится возврата болезни. «Кто теперь отнимет его у меня?» думала Жюли, гордая и радостная тем, что она вновь завоевала его, но все еще неуверенная в будущем. И Морис, счастливый тем, что нашел в ней защиту от своих дурных желаний, так же думал, хоть и с меньшей верой: «Отнимут ли теперь меня у нее?»
А между тем это беспокойное сердце, не успев даже излить первую нежность свидания, уже боялось пустоты Наступающих часов. Нет, он не боялся той скуки, которая мучила его в. Гамбурге: он никогда не знал ее подле Жюли; он мог бы проводить целые дни, молча, прижавшись головой к этой дорогой груди. Увы! Он страшился своих собственных мыслей; даже объятия возлюбленной не спасали его от этих недодуманных мыслей. Сколько раз, обнимая ее, он изменял ей, относя свои страстные ласки не к ней, а к другой женщине, к ее сопернице?
Он сказал Жюли:
- Кронберг не особенно веселое место, моя дорогая. Здесь нет ни казино, ни парка; живописный пейзаж, вот и все. Но никто нам не мешает, когда мы захотим, хоть сегодня, например, отправиться по железной дороге в Франкфурт. Там знаменитая опера. Мы можем также съездить в Гамбург, где есть прекрасный кургауз. Жюли взяла его руку:
- Нет, останемся здесь.
- Мне также это больше по вкусу. Только вместо всякого иного препровождения времени, нам придется удовольствоваться прогулками.
Она перебила его:
- Разве мне нужно иное препровождение времени когда я около вас?
- Говорят, что окрестности очень красивы, - продолжал он, не отвечая на этот упрек. - Я с ними незнаком, но я купил в Гамбурге карту Таунуса. Вы можете много ходить?
- С вами я всюду пойду, - ответила она.
В тот же день он подверг ее испытанию. Они позавтракали в том же ресторане, как накануне, им хотелось вновь пережить чудное ощущение спокойствия и брачного единения, какое они испытали вчера. Это был немецкий трактир, похожий на все рестораны в таком роде в этих живописных селениях по берегу Рейна: большая зала с фаянсовой црчью, украшенная портретами императора и основателей германского союза, с садиком, в котором расставлены столы, покрытые чистыми белыми и красными скатертями. Слуги были внимательны и приличны; кухня немножко тяжела, но показалась им здоровой; они даже забавлялись ее оригинальностью и с удовольствием пили превосходное вино, поданное в узких бутылках. Их смех, звучавший иногда, удивлял их самих. Время от времени Жюли протягивала руку Морису и говорила:
- О, мой дорогой, какое счастье быть здесь! Я все еще не могу поверить, что это правда!
И ее счастьем Морис действительно был счастлив.
Вернувшись в виллу Тевтонию, после завтрака, они отдохнули некоторое время, прежде чем предпринять свою прогулку. Склонясь над планом Таунус-Клуб, они старались ориентироваться, размеряли расстояния. Наиболее выдающиеся местности были помечены цветными знаками. На дорогах встречались такие же знаки, прибитые к деревьям или к домам, чтобы путешественники не сбивались с пути.
Морис решил, что они на этот раз, пойдут в Фалькенштейн: это маленькая, ближайшая к Кронбергу деревня, в красном гиде было сказано: «одна из красивейших окрестных местностей».
Они отправились. Морис облокотился на руку Жюли, как делал это в Париже, когда они подымались на возвышенности Бельвиля или Монмартра. Сначала они шли медленно, как пешеходы, которые не заботятся о цели пути. Затем, поддаваясь желанию поскорее достичь назначенного места и под впечатлением живописной дороги, они пошли правильнее и скорее. Дорога постепенно подымалась к косогору, закрытому от них лесом с правой стороны; налево косогор спускался, превращаясь в ярко-зеленую долину, поразительно зеленую для этого времени года; затем снова возвышался косогор и снова оканчивался долиной. Скоро дорога сузилась, пошла лесом. Это была дорога Фалькенштейна.
Они шли рядом, держась за руки. Щеки Жюли раскраснелись, волосы выбились из-под соломенной шляпы; несколько капель пота выступило на лбу. Она улыбалась, слегка запыхавшись при подъеме. Еще раз, глядя на нее, Морис подумал: «Как она хороша! Ей не больше двадцати пяти лет!» Он любовался свежестью ее лица, силою ее членов, ее здоровым видом. Он протянул ей свои губы, приложив к ним свои, она подметила в глазах друга ту искорку страсти, которой она так боялась в первые месяцы их любви и которая давно уже погасла, заменившись тихим мерцанием нежности, и на этот раз она сверкнула для нее, как искра надежды.
«Боже мой! Благодарю тебя, он меня любит!…»
Она обожала его за этот поцелуй любовника; ей стали дороги эта дорога, на которой его охватило это желание, этот лес, подымавшийся по сторонам, и эта улыбающаяся чуждая земля, в которой их любовь пускала новые корни.
Они обедали в Фалькенштейне. Когда они вернулись домой, уже наступила ночь. Чувствуя некоторую усталость, Жюли тотчас же легла. Морис вышел на террасу? Хочу выкурить папироску, - сказал он. Его мучила жажда уединения после этого дня, когда он, под нежным взглядом своей любовницы, едва смел думать; им уже овладевала потребность запретных мечтаний. Он не умел сладить с самим собою. «Этот пейзаж полон чудного романтизма», говорил он себе, любуясь залитой лунным светом местностью, которою они накануне любовались вместе. Но какая-то частица этой мысли витала далеко от Кронберга и от Германии. «Где Рие в эту минуту?» Около Клары. Сделал ли он предложение Эскье? Что она ему ответила?
Все эти вопросы он не смел предложить Жюли, а между тем он не мог жить, не зная этого. Он представлял себе молодую девушку сидящей после обеда на диване в моховой гостиной, где к ней обыкновенно присаживался Рие. Он видел только ее темные глаза, широкие брови, ее черные волосы, но видел это с необыкновенной ясностью, гораздо яснее, чем видят в действительности. И Рие всегда говорил с нею о браке, о будущем.
«Таких баронов де Рие не любят, - думал Морис, - Рие нечто вроде духовного лица, светский проповедник, который действует на женщин усыпительно. Она никогда не выйдет за этого неудавшегося священника».
В таком случае каково же будущее? Прекрасно! Оно после этого мимолетного кризиса будет естественным продолжением настоящего; он, Морис, будет единственным полюсом для обеих женщин; он будет жить среди них обеих, подогреваемый их двойным пылом.
«Зачем менять образ нашей жизни, Бог мой? Почему не жить мирно? Я ничего не буду требовать от Жюли. Я ничего не буду ждать от Клары».
Но тотчас же черные глаза, черные волосы, слишком красные губы начинали манить его к себе. Неужели он даст увянуть этому цветку, не насладившись его ароматом?
«Нет, потому что она моя, - говорил он себе. - Клара меня любит, я знаю, что она меня любит».
Он до того поддался этим волнующим грезам, что ему стало страшно. Он торопливо оставил террасу, затворил окно, вошел в спальню. Лампа еще горела в комнате. На одной из узких, почти детских кроватей спала Жюли. Сорочка, обшитая валансьенскими кружевами, доходила почти до горла, оставляя открытой лишь бледную, полную шею до кисти рук. Одна из этих откинулась на простыню; Морис заметил на ее пальце обручальное золотое кольцо.

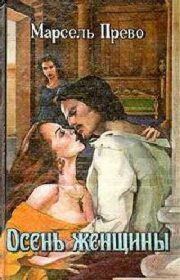
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.