«Увы» - подумал он, - Мне никогда не удастся убедить себя. Даже здесь, свободные, вдвоем, мы не муж и жена. Неужели вся моя сердечная жизнь ограничится этой скучной связью? О, конечно, нет! Лучше жениться на этой женщине, которая меня любит, которую я люблю! Это, по крайней мере, будущее».
Он был полон грусти: «Ничего нового не произошло со вчерашнего дня, а между тем, Боже мой, как мне грустно!»
Он торопливо разделся и, не пробуждая Жюли, лег на другую кровать.
Следующие затем дни почти не различались от первого дня. Морис и Жюли вставали поздно, завтракали в гостинице, затем немедленно отправлялись на какую-нибудь экскурсию, обдуманную утром. Каждый раз вокруг них менялись пейзажи: то зеленая долина, то каштановые рощи, то дубовый или сосновый лес. Иногда на холмах возвышались зубчатые развалины легендарных замков, но повсюду взгляд встречал спокойный горизонт, улыбающуюся долину, тенистые уголки, приятные для помятых жизнью сердец.
В эти минуты они были настолько счастливы, насколько могли. В таком случае откуда это беспокойство, все сильнее и сильнее овладевавшее ими с каждым прожитым часом, эта тревога, в которой они не смели себе признаться и которой даже не находили имени? Это был неуверенный, бесформенный страх двух путешественников, идущих рядом друг с другом по сыпучим пескам; они чувствуют, что ноги их с каждым шагом углубляются все более и боятся сказать себе это из страха, что товарищ подтвердит отчаяние, ответив: «И я также». Им казалось, что признавшись в этой невралгии души, они услышат друг от друга успокоение; но какая-то сила более могущественная чем их желание и ум, сжимала их губы и ни один из них не находил в себе храбрости вскрикнуть с отчаянием: «Мне страшно, успокой меня!» Чего они боялись? Той таинственной, непобедимой силы, которая под видом их теперешнего сближения неутомимо работала, стараясь их разъединить. Да, они этого боялись. Эти два существа, которые спали, просыпались на груди друг у друга, которые в течение целого дня говорили вдвоем, эти двое любовников, которых принимали за супругов, томились предчувствием неизбежной разлуки. Будет ли это зависеть от нее или от него или не от них самих, но они несомненно расстанутся.
Они скрывали свое страдание; Но, порою, во время их ежедневных прогулок, под впечатлением ли какой-нибудь местности или просто под влиянием неудержимого порыва, они бросались друг другу в объятия и без слов понимали друг друга. Они обнимались с безнадежной страстью и слезы катились из их глаз… Они не спрашивали: «О чем ты плачешь?» Обнимаясь таким образом, им казалось, что они на некоторое время отдаляют призрак, грозивший их нежности.
С одним из самых мучительных подобных порывов, позднее, у них соединилось воспоминание об уголке одной окрестности, между Кенигштейном и Шенхейном. Эта долина получила название Бильталь от ручейка, протекающего по ней. Поднявшись к Бильталю, с северной стороны Кенигштейна, вы тотчас же очутитесь в лесу; ручеек с легкой пеной бежит вам навстречу, отражая зеленые ветви деревьев; сквозь его прозрачные струи видны все камешки дна. Дорога идет вдоль него; местами древесные стволы, перекинутые через ручей, представляют живые мостики.
Лесная растительность, оживленная свежестью ручья, представляет зеленый ковер, усеянный цветами, а вода, то плавно струящаяся, то бешено бегущая, подмывая скалы или лениво обходя кусты, наполняет воздух вибрирующими модуляциями, напоминающими человеческий голос.
На полпути по этому длинному зеленому коридору правый берег расширяется, как бы огибая паперть капеллы, а под сводом, образованным ветвями, возвышается небольшая колонна, стоящая на одинокой могиле. Венгерский поэт, проходя однажды этим местом, нашел его наиболее подходящим для того, чтобы вкусить здесь покой смерти. Позднее добрые руки перенесли его на берег ручейка, который он любил, зарыли его, поставили памятник, а возле него каменную скамейку, чтобы сон поэта убаюкивала не одна природа, а разговор пилигримов и шепот влюбленных.
Там на этой погребальной скамейке сели Морис и Жюли, пройдя, держась за руки по берегу Биля. С этого места ручей, огибая закругленный угол скалы, производит впечатление маленького водопада или воды, отвесно падающей из урны. Это было после полудня; солнце прорывалось сквозь густые, почти сплетенные ветви деревьев; тишину нарушало только редкое чириканье птиц, пролетавших над ручьем.
Природа может каждый сезон обнажать или молодить местности, они всегда сохранят неизменную душу, которая говорит всем душам человеческим одним и тем же голосом и навевает всем почти те же грезы… На этом самом месте, где когда-то венгерский поэт почувствовал меланхолию к жизни, желание непробудного вечного сна эти двое любовников прислонились головами друг к другу с одинаковой усталостью от борьбы, с общим желанием покоя, забвенья, (остановиться здесь и более не двигаться, не идти вперед навстречу будущему. Раз обстоятельства рвут связывающие их цепи, раз они предчувствуют разлуку, которая разъединит их сердца, зачем жить, зачем делать лишний шаг вперед?
Эти мысли, в которых они признавались самим себе, наложили такую грустную печать на лицо Жюли, что Морис попытался словами прервать это настроение:
- Почему ты мне ничего не скажешь, моя любимая? - произнес он. - Не правда ли, как хорош этот уголок долины?
Она ответила:
- Да. Он прелестен. Но мне очень грустно.
И он, не пытаясь более искать напрасных отговорок, сказал:
- Мне также.
Они глядели несколько времени друг на друга, держась за руки. Одинаковая неуверенность волновала их обоих; не высказать ли тайну, которая их тяготит, не порвать ли, не прекратить ли муки? Они прекрасно сознавали, что потом будут страдать, но это страдание уже будет иное, оно не будет давить их страшной тяжестью; может быть, они в силах будут говорить друг с другом о своем горе.
Морису стало стыдно, что он нарушает спокойствие этого тихого уголка, но он сказал:
- Послушай. Я не хочу огорчать тебя. Я вполне твой, вполне твой! Я хочу забыть все, что не ты. Только… есть одна вещь, которая меня мучит, вещь, которой я не знаю… А когда я ее узнаю, то уверяю тебя, я уже не буду думать больше о том, что делается там, не буду никогда.
- Ну, что же… спроси меня!
Она произнесла это с такой покорностью, как-будто говорила» «Бей меня!»
- Это только одно слово… - торопливо продолжал Морис, слишком думавший о себе, чтоб отказаться от ее жертвы. - А потом мы сейчас же забудем это, не правда ли? Мы забудем то, что я у тебя спросил и то, что ты мне ответила. Ты мне обещаешь забыть?
- Я тебе обещаю.
- Ну, хорошо!… Я хочу только знать, когда ты уезжала из Парижа, Рис вернулся из Бретани?
- Да.
- И он был у вас?…
- Да.
Он хотел спросить еще «видел ли он Клару?», но выражение страшного горя на лице Жюли остановило вопрос на его губах. Он не предложил его, но тем не менее она его слышала, она его угадала. Крупные слезы, несмотря на усилие казаться спокойной, потекли по ее щекам.
Он не пил эти слезы прямо с глаз, как всегда это делал. Он даже не склонился над ней, чтобы ее успокоить. Он чувствовал, что она оттолкнула бы его, к тому же он не находил слов утешения.
Они сидели так, рядом, молчаливые и серьезные, около этой могилы, в этой живописной местности, где прелесть романтизма уже не пленяла их.
Вдруг свежий вечерний ветерок, пробившись сквозь ветви, всколыхнул светлую воду ручейка, охватил их и заставил их вздрогнуть. Солнце уже заходило! Сколько же времени просидели они так, настолько отказавшись от надежды, что даже забыли самую жизнь? И какие грезы преследовали их в этой неподвижной молчаливости? Увы! Одна и та же греза, в которой они не хотели признаться: греза смерти любовников, рядом друг с другом, после того как они оба поняли, что для их любви нет больше места в жизни.
С этих пор началось медленное восхождение вдвоем на Голгофу, теперь они знали, что, дойдя до ее вершины, они принесут в жертву свою любовь. Жюли подстерегала движения Мориса, его самые незначительные слова и старалась объяснить себе ими эту колеблющуюся душу. Вследствие этого она делала много неловкостей, всегда связанных с беспокойной нежностью. Когда она заставала Мориса мечтающим, с неопределенным выражением глаз, она думала: «Это он видит Клару, это он на нее смотрит». И тогда, вполне ясно отдавая себе отчет в том, что ее вопрос расхолодит молодого человека, она не могла удержаться, чтобы не спросить:
- О чем вы думаете, мой друг?
И неопределенный ответ Мориса - «ни о чем…» или: «о вас, моя дорогая» - усиливал ее подозрения.
В то время как она делала всевозможные усилия, что бы проследить за Морисом и удержать его, он начинал смотреть на свою любовь к ней, как на долг; известно уже, что ничто так не убивает любви, как подобное отношение. Он смотрел на нее для того, чтобы убедиться, что она красива и обворожительна. Она действительно была такою; достаточно было взглянуть на нее, услышать шепот обедающих в ресторане, когда любовники проходили по большому залу. Морис, понимавший теперь немножко немецкий язык, беспрестанно слышал это восклицание «Bildschön!…» (хороша, как картина!)
«Эти немцы правы, - думал он. - Жюли красива, гораздо красивее Клары. Но, что мне до этого? Я равнодушен теперь к ее красоте, как к изящному портрету. Во мне уже нет страсти к ней. Я люблю в ней воспоминание и я ей благодарен, вот и все».
В этой мрачной жизни отречения между ними уже вставал страшный признак приближающегося кризиса: это затишье, которое предвещает близкую грозу. Им уже тяжело было оставаться вдвоем, подыскивать слова для разговора, помимо тех, которые непрестанно занимали их мысли, но о которых надо было молчать. Слова не выходили из судорожно сжатого горла… Они стали избегать уединения, уходили из дому. Вне дома на деревенских дорогах, на лесных тропинках, они заняты были ходьбой и это устраняло разговоры. Они участили свои экскурсии; они ходили, как приговоренные к смерти; утром оставляли Кронберг и возвращались туда почти ночью.

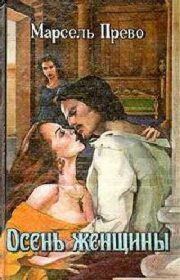
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.