И помолчав немного он прибавил:
- И это самое разумное, что я могу сделать для себя самого.
Он сделал несколько шагов, потом вернулся. Их взгляды встретились.
- Вы огорчены? - грустно сказала молодая девушка. Рие ответил:
- Да, очень огорчен. Но, что ж вы хотите?
В первый раз он понимал, что судьба выбрасывает его из светской жизни, разрушает сердечные дела, составляющие счастье других мужчин.
- Я не могу допустить, чтобы вы страдали по моей вине, - прошептала Клара. - Вы всегда были так добры ко мне. Я очень расположена к вам.
- Правда? - спросил Рие, стараясь удержать слезы, выступившие на его глаза. - О, да! Истинная правда… Он взял ее обе руки.
- Сохраните в себе это расположение ко мне, потому что Думая о вас потом, я буду чувствовать, что я еще ваш должник… Я не знаю, как сложится моя жизнь. Как бы она ни повернулась, мысль о том, что вы с теплотою вспоминаете обо мне, всегда будет меня поддерживать…
Они долго не говоря ни слова смотрели друг на друга; слишком тяжелые мысли роились в их голове, никакие слова не в силах были бы их передать. Клара думала: «Почему во мне живет какая-то неведомая сила, которая сильнее, чем моя воля и ум? Этот человек любит меня, я знаю; в нем нет ничего, что может не нравиться, он добр, он умен и я заставляю его страдать ради другого, который его не стоит, который меня не любит!»
Одну минуту она готова была взять себя в руки, сказать ему:
«Да, я принимаю ваше предложение, я ваша жена». В такие минуты достаточно легкого толчка, чтоб поколебать наши решения. Таким толчком было для нее воспоминание, кольнувшее ее в самое сердце; вчера она застала Жюли, читающей в моховой гостиной письмо, в котором она узнала почерк Мориса. Инстинкт пробудившегося соперничества восторжествовал. Она хранила молчание.
- Прощайте, - просто сказал Рие.
Клара спросила:
- Вы уходите? Останьтесь еще немножко со мною.
- Нет, - ответил молодой человек. - Я не хочу оставаться. Позвольте мне уйти, не видеть вас больше в течение некоторого времени. Если я останусь здесь, силы изменят мне… Прощайте.
- Как вы страдаете! - прошептала она.
Он ответил:
- Да. Очень.
- Так вы не хотите меня?
- Нет. Прощайте.
Необдуманным движением она подставила ему свой лоб. Он прикоснулся к нему губами. Потом, не оглядываясь назад, он оставил ее, прошел сад и скрылся.
Молчаливая безнадежность овладевала им, медленно пронизывала его, как страшный холод, заледенила все его члены. «Я знал, что это кончено… я давно знал… Да. Но теперь я ее больше не увижу».
Его несчастье казалось ему уже невероятным; он видел его как-то вне жизни, в грезе. Реальные предметы, окружавшие его, дома, деревья, экипажи мигали мимо его глаз как-то неопределенно, словно в тумане…
- Здравствуйте, г-н депутат!
До него долетела эта фраза как будто издалека; чья-то рука скользнула под его руку.
- А, что это? Мы мечтаем?
Это был Домье. Рие был рад этой встрече, рад прицепиться к живому существу.
- Это вы, доктор… Извините меня… Я несколько сбит с толку.
- Я это вижу, - сказал Домье. - Что с вами? М-lе Эскье не приняла вас?
- Нет, приняла… Только, друг мой, вся моя мечта разлетелась в прах.
- Она отказалась выйти за вас?
- Она отказалась выйти за меня.
- Бедный мальчик!
Они шли некоторое время молча по асфальту аллеи; сухие листья, срываемые ветром, хрустели у них под ногами.
- Что же вы думаете делать? - спросил доктор.
- Я ничего не знаю. Мне кажется, что моя жизнь не имеет больше цели… Вам случалось видеть в Монте-Карло игроков, которые, шатаясь, спускаются со ступенек казино, где они потеряли все свое состояние. Ну вот, я поставил на карту все мое счастье на «полный номер», который не вышел. Вот что. Не дадите ли вы мне добрый совет?
- Совет? Я бы уже давно дал его вам, если б вы его исполнили. В двух словах, вот мой диагноз о вас. Вы чужой в свете, которого вы не понимаете, и который не понимает вас. Зачем вы в нем остаетесь?
- Что вы хотите сказать?
- Я хочу сказать, мой милый, что я нахожу вас исключительным существом. Вы вошли в жизнь со светлой и чистой душой. Вы тотчас же отдались идеям, людям, исчезнувшим королям, религии, рабочему классу, ваше самопожертвование стало для вас карьерой. Конечно, вы сделали ее успешно, но то, что кажется другим вашим личным успехом, в действительности, совершилось помимо вас; вы не искали личного счастья. Только раз в жизни вам пришла в голову мысль сделать что-нибудь для себя самого. Влюбившись в молодую девушку, вы хотели на ней жениться… Это значило идти против вашей судьбы, мой милый, и вам это не удалось. Постарайтесь поскорее забыть о себе. Вернитесь к вашему природному призванию, к самоотречению. Вот мое мнение.
После некоторого молчанья Рие ответил:
- Мне кажется, что вы правы. Но, видите ли, я до такой степени сбить с толку, что у меня право не хватает храбрости собрать обрывки моих мыслей в одно целое…
Домье взял его за обе руки и посмотрел ему прямо в лицо.
- Слушайте! Я сейчас еще яснее выскажу вам свою мысль. Вы нечто вроде священника, заблудившегося в свете; вы имеете счастье обладать религиозной верой, то есть вы верите слепо, что, в сущности, гораздо лучше всех наших рассуждений. Оставьте же как можно скорее свет, потому что он вас отбрасывает от себя; поступайте в священники, друг мой!
Шаг за шагом Домье довел Рие до отеля Сюржер: барон побледнел еще больше. Это призвание священства, столько раз приходившее ему в голову и выраженное теперь этим неверующим доктором, казалось ему необыкновенно отрадным, но мысль о расставании со светом огорчала его, как того евангельского юношу, который плакал, когда Спаситель повелел ему следовать за Собою.
Домье сказал ему тихо:
- Я должен вас покинуть. Я дошел до моей цели и меня ждут к Сюржеру.
Это имя заставило молодого человека поднять глаза. Он увидал двери отеля, верхушки деревьев; он с особенной ясностью припомнил последние слова Клары.
- Хорошо, - сказал он. - Я оставлю Париж сегодня же вечером. В уединении у меня, быть может, достанет храбрости исполнить то, что вы мне советуете… Что бы ни случилось, благодарю вас.
В эту минуту они чувствовали, что они нечто большее, чем два друга; они испытывали ту близость человеческой любви, которая озаряет нас на мгновение, когда мы открывает друг перед другом всю бездну наших душ.
Рие повторил:
- Благодарю вас!… Не говорите «ей»…
- Нет, - сказал Домье, - обещаю вам.
Он видел, как Рие удалялся, шел по аллее уже более твердым шагом. Он в задумчивости вошел в отель.
«Какой странный инструмент наша совесть, - думал он - Я сам ни во что не верю, а вот, быть может, сейчас «сделал священника», как говорят добрые женщины в Бретани».
В это самое время, - около четырех часов пополудни, - фиакр привез Жюли Сюржер на угол улицы Сhambiges. Она торопливо вышла из него и скользнула в один из домов, похожих на все остальные дома этой улицы.
Они были так неудачно расположены, что солнце не проникало вполне на улицу ни в один час дня. Теперь здесь было почти темно, несмотря на ясный день. Жюли вошла на крыльцо, отперла направо дверь из светлого дуба, толкнула ее, заперла на задвижку лихорадочным движением и с замирающим сердцем остановилась, прислонясь к стене узкой передней… Несмотря на то, что со времени своего возвращения в Париж она каждый день приезжала провести часок в этой квартире, но она еще не умела сладить со своими нервами, и каждый раз чувствовала ту же тревогу входя и то же горе - войдя.
Дело в том, что здесь уже не было дорогого друга подстерегающего за дверью ее звонок, чтобы в ту же минуту сжать любовницу в своих объятиях. Квартира была пуста. Большая темная комната, окна которой едва пропускали внутрь лучи осеннего дня, была полна выветривающимся запахом человеческого присутствия. С прошлой зимы здесь не разводили огня; сырость уже чувствовалась в воздухе. Войдя сюда, Жюли вздрогнула.
После виллы в Кронберге, где Морис больше чем где-либо принадлежал ей, Жюли любила эту опустелую, холодную, темную комнату. Ни одна женщина, кроме нее, не проникала сюда с тех пор, как Морис здесь устроился; она была полна только их воспоминаниями; Жюли была здесь больше «у себя дома», чем в отеле Сюржер. Она забывала здесь на минуту внешний мир, долг и угрызения совести; тут она могла громко произносить слова, которые она так часто произносила около Мориса: «Здесь я счастлива!»
Теперь квартира была пуста. Жюли не могла уже больше разговаривать со своим возлюбленным, или даже, не разговаривая, смотреть, как он ходит по комнате, пишет письмо, разрезает книгу. Она не могла уже помогать ему одеваться, когда он собирался на вечер или иногда, прикрепить ему пуговку, зачинить что-нибудь. Она уже не могла подставлять губы или щеки под медленные, крепкие поцелуи Мориса, в которых она нередко искала подтверждения в его любви…
Теперь она одиноко шла из этой комнаты в будуар, в переднюю, в другую маленькую комнатку, где Морис вешал свои платья; она садилась в кресло, где он работал. Она знала историю каждой вещи на этом столе.
Многие из них были ее подарки, другие были куплены вместе с ней, по ее совету. Она перелистывала записную книжку в зеленом сафьяновом переплете, которую Морис привез из Лондона. Между иероглифами, фантастическими надписями, силуэтами, нарисованными пером, она находила числа, которые сама хорошо помнила. Она тысячу раз встречала здесь свои имя: «Жюли!» И еще чаще нежную монограмму: «Йю»!… Ах! Ей не надо было иного занятия, кроме воспоминаний и грез; когда порою она открывала одну из книг, оставленных Морисом на письменном столе, она ее не читала, она не сумела бы даже сказать ее заглавия, когда, торопясь домой, клала ее обратно.

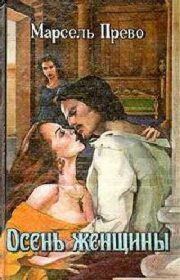
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.