Он размышлял, придумывал всевозможные предположения. Он не представил себе только настоящего: он не догадывался, что Домье мог показать Жюли его письмо… «Кларе хуже… или же Антуан умирает…» И он тотчас же отбросил первую гипотезу. «Если бы Клара была очень плоха, то во всяком случае не Жюли позвала бы меня к ней». Он, как и большинство мужчин, не мог даже и представить себе, что любящая женщина, не переставая любить, могла пожертвовать свой любовью.
«Да, это именно так. Антуан умирает. Жюли торопится меня увидать, она зовет меня. Она будет просить, чтобы я исполнил мое слово. Она хочет убедиться, что я решился».
Несколько дней тому назад это возвращение в Париж, эта необходимость выполнить свое обещание испугали бы его, но сегодня это письмо, которое звало его домой, доставило ему облегчение и какое-то скрытое удовольствие. Эти три строчки на бумаге цвета крема были освобождением, концом изгнания; они возвращали ему, перед его совестью, право возврата. В конце путешествия он встретит стену, загораживающую его жизненный путь… Но, как во многих случаях его жизни, его не покидала туманная, нечестная надежда. «Что ж… я сдержу свое обещание, но я буду около Клары, а быть подле нее значит заставить ее выздороветь… И потом, все устроится…» Он не смел добавить, как, и посредством какой двойной измены. Он решил непременно вернуться. Как всегда, раб судьбы, он ждал только постороннего слова, чтобы это решение окрепло.
Итак, он уезжает; он уедет как можно скорее. Он посмотрел распределение поездов и увидал, что надо подождать до завтрашнего утра, чтобы сесть в Карлсруэ на восточный курьерский поезд, который привезет его в Париж послезавтра утром. Этот человек, которому грозила жестокая расплата, которому сорок восемь часов спустя придется навсегда покончить с своим будущим, этот человек провел два дня как в возбужденной, почти счастливой лихорадке. Он посвятил утро посещению лучших окрестностей Гейдельберга; при бледном ноябрьском солнце краснели стволы обнаженного леса, но никогда еще ни Филозофенвег, ни Кенигштуле не казались ему такими прекрасными. Он чувствовал к Гейдельбергу, равно как к Гамбургу и Кронбергу, какое-то таинственное влечение, какое мы чувствуем к местностям, где мы много жили, много любили или много страдали.
Следующую ночь он спал мало, но она не показалась ему ни долгой, ни тяжелой, и когда на рассвете он укладывался в дорогу, то весь дрожал от мысли, что поезд скоро привезет его во Францию… Наконец-то, наконец-то заключение окончилось, он возвращается! Конечно, к иным испытаниям, к полному концу своих грез, но он возвращается! И что же? Еще недавно он, как Байрон, как Стендаль, мечтал о равнодушном космополитизме, он бежал из родины, но теперь и родина, и любовь привлекали его.
Он скоро уснул. Когда он проснулся, солнце уже стояло высоко на сероватом небе; поезд катился по опустошенным долинам, мимо осыпавшихся лесов: это была уже Франция. Морис удивился, что не ощущает никакой грусти. «Это потому, что я скоро увижу Жюли, - подумал он. - Бедный друг, как она меня любит!»
Он вспомнил прежнее возвращение в доброе старое время их пылкой нежности, когда он, возвращаясь в Париж после короткого отсутствия, находил свою любовницу на вокзале, и как они не переставая обнимались, сидя в карете, везшей их на улицу Сhambiges. Его охватила такая горячая волна воспоминаний, что он понял, как он любил еще эту покинутую женщину, о которой еще несколько минут тому назад он говорил: «Бедный друг, как она меня любит!»
«Но что я за человек? - говорил он себе, - Что я за безрассудное исключение из общего правила? Жюли угроза всего моего будущего, она моя тайная болезнь, а я ее люблю!»
Да, приходилось согласиться с самим собою: потребность встречи с ней, потребность ее объятий, ввиду этого близкого свидания, начинала положительно терзать его. «Вот сейчас, сейчас… - думал он в волнении, когда поезд медленно тянулся мимо фасадов улицы Фландр. - Через минуту… через несколько секунд…»
Но он ошибся. Жюли не было на станции. Она боялась, что мужество, окрепшее в ней за эту неделю, покинет ее среди этой выходящей из вагонов толпы, среди суматохи на платформе, когда Морис бросится в ее объятия. А если он будет нежен с ней? Если он опомнился, - что ж удивительного, - после своего ужасного письма? Тогда ведь ей придется бороться и защищаться от любви… О, нет… никогда больше! Теперь она твердо решилась. Что-то более сильное, чем любовь, вера в фатализм, в необходимость самопожертвования, охватило все ее существо…
Она рано вышла из дому, чтобы почти в одно время с Морисом быть на улице Сhambiges; она пошла пешком, стараясь успокоить этой длинной дорогой свое волнение.
Она была права, щадя свои нервы; они тотчас же изменили ей, когда она очутилась в этой комнате, полной воспоминаниями их поцелуев, их ласк. Она думала:
«Последний раз я прихожу сюда!…»
И ей показалось, что она умирает. Она в изнеможении бросилась на диван, где они так часто лежали, прижавшись щекой к щеке, в состоянии нежной и мечтательной неподвижности.
Она медленно пришла в себя, подобно тому, как бездушное тело выплывает на поверхность воды; она только тогда опомнилась, когда раздался стук подъехавшего экипажа; наружная дверь отворилась и затворилась, ключ повернулся в замке.
«Это он!»
Это был он. Он появился, приподняв драпировку; в эту короткую минуту, когда он входил в полутемную большую комнату, она успела себе сказать: «Это он, и это не он». Ей показалось, что это другой Морис, которого она не видела давно, давно и который сделался какой-то туманной, несуществующей вещью, как ее счастье.:.
- Жюли!…
Он произнес только это слово, таким разбитым голосом!… и она не знала, как это случилось, но он был уже на коленях подле нее, он был у ее ног, несмотря на все, он сделался прежним Морисом, уткнувшимся в ее платье, блудным сыном, побледневшим в разлуке, измученным от долгого пути. Он склонился на эту грудь, которую так напрасно покидал, так жалел и, наконец, снова нашел? И она также, как прежде, приложила губы к темным кудрям своего друга; она оставила их там, она не могла их оторвать, потому что она хорошо знала, что это последний, последний поцелуй; одно слово, произнесенное ими, порвет очарование… Все будет кончено.
Тогда Морис, сердце и уста которого как будто замерли в ожидании чего-то необыкновенного, почувствовал, что слезы увлажнили его волосы, затем лоб, затем глаза и щеки. Эти слезы текли не так, как обыкновенно текут слезы, они текли без рыданий обильно, тихо, как кровь из открытой раны.
Ему стало страшно, именно страшно, он поднял голову; вид глубокого страдания человеческого нас пугает как сумасшествие. Он пролепетал:
- Что с тобой… Жюли? Скажи! Что с тобой? Зачем ты так плачешь?… Ты меня пугаешь…
Она горячо прижалась к нему.
- Все кончено, - прошептала она. - О, мой дорогой, все кончено!
Он не понял ее, но это слово, которое он услышал, перевернуло его душу. Что-то такое, кто-то такой, она, он, прошлое, - он не знал, что что-то умирало в эту минуту, около него, около нее, между ними… он это чувствовал… Он вцепился в платье своей любовницы, стал искать рот, который она защищала.
- Что ты говоришь? Кончено? Ничто не кончено… Я здесь, Жюли… Взгляни! Я вернулся… Так ты меня не любишь больше? Ты уже не хочешь меня поцеловать?
Она оттолкнула его жестом, в котором он старался подметить ласку. Твердое желание не поддаться этой нежности остановило ее слезы.
- Прошу тебя… Морис.
Он поднял на нее свои красивые, изумленные глаза.
- Почему ты меня отталкиваешь? Я тебя люблю!
- Выслушай меня, - сказала она, - Пожалей меня! Не заставляй меня страдать больше, чем следует! Ты прекрасно знаешь, что все кончено.
Он упорно повторил:
- Я тебя люблю!
И он не лгал. Он уже с отвращением думал о своих колебаниях, о своих изменах: он чувствовал теперь, что не в силах расстаться с Жюли.
- Я твердо решилась, - продолжала она. - Я предоставляю тебя самому себе, мой любимый. Женись и (тут голос ее дрогнул) будь счастлив.
- Я люблю тебя! - повторил Морис. - Я хочу только тебя.
Теперь это он, в свою очередь, уткнувшись в платье своего друга, чувствовал, как из его глаз градом покатились слезы, в которых вылилось все его прошлое, его любовь, его сердце, он весь. Жюли, слегка приложив руку к волосам молодого человека, продолжала:
- Не думай, что я на тебя сержусь… Я осталась все та же… Я не переменюсь, я всегда буду так относиться к тебе, я говорю тебе истинную правду!… Я тебя очень любила, да, мой дорогой! И я, как прежде, хочу, чтоб ты был счастлив. Если я огорчена теперь, то это потому, что я не могу сделать тебя счастливым в будущем. Вот мое горе, видишь…
Морис пролепетал:
- Жюли!… Моя Жюли!… Моя Йю!
- Ты все-таки будешь любить немножко твою бедную Йю, неправда ли? Когда ты будешь вспоминать о ней… потом… ты знаешь… ты скажешь себе, что это не ее вина… если ты был так молод, слишком молод для нее!… Всегда думай о ней так, как ты думаешь теперь, мой дорогой.
Теперь тебя огорчает, что ты се теряешься это вижу…
Морис, не поднимая головы, но крепко сжимая Жюли в своих объятиях, горячо повторял:
- Я не хочу, я не хочу!
Она дала ему немножко успокоиться, ласково отстранила его руки и сказала:
- Ну!… Я ухожу.
Что это, он грезит? Неужели она действительно уйдет так, вырвется от него? Он никогда не предвидел подобного конца их любви. Он пугал его, он его обезоруживал.
Он схватил ее руки:
- Останься, Жюли!… Это невозможно! Не оставишь же ты меня так? Ты не уйдешь? Что я тебе сделал, чтоб, ты меня бросила?

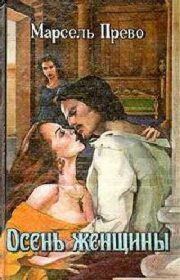
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.