- Прощай, - снова сказал она. - Я должна вернуться домой. Приходи к нам завтра утром. Тебя будут ждать. Прощай.
Он видел как она встала, поправила прическу, платье, - уходила. Прежде чем поднять портьеру, она улыбнулась ему улыбкой умирающей; он еще раз расслышал ужасное слово:
- Прощай!
Но когда она хотела выйти, он побежал к ней. Весь ужас этого: «Никогда больше!» наэлектризовал его. Он еще ее любил, это был порыв чисто физической любви.
Испуг дал ей силы… Она оттолкнула Мориса, он с минуту не мог придти в себя… И в течение этой короткой минуты она убежала.
Когда она ушла, у него не достало храбрости следовать за нею. Стена стала сейчас между ними, он знал это, он это чувствовал. Он, одетый, бросился на кровать. Он зарыдал. Да, это совершенная правда, частица его жизни умерла. О чем он плакал? Об исчезнувшей любви? О себе самом? Без сомнения, над самим собой, над своим переменчивым, непостоянным существом, над собственной ничтожностью, которую мы сознаем при расставании. Эта женщина, вся в слезах, только что вырвавшаяся от него, - это его молодость: она уносила с собой в складках своего платья кровавые лохмотья его человечности.
«А Клара?»
Имя, лицо, фигура, аромат молодой девушки… При этом воспоминании он задрожал внутренне и что-то могучее и чудное охватило его. Он упрекал себя в этой низкой радости, как промотавшийся жуир может упрекать себя в желаний смерти дорогого отца, с тайной надеждой на наследство. Все обычные доводы уже не существовали для него. Преступление состояло в том, что он покинул любовницу и желал невесту. Он долго мечтал об этом. Уже совсем стемнело. Он почувствовал голод и вышел.
Мрачные, пустынные улицы, вымощенные торцем, тянулись как коридоры. Время от времени на поворотах показывался медленно двигавшийся фиакр, потом по направлению к Елисейским полям быстро проехали два фиакра.
С тяжелой головой, усталой от дороги, измученный только что пережитым волнением, Морис чувствовал потребность двигаться, утомиться еще более и шел все прямо. Он перешел Сену через мост Альма, очутился в аллее Боске и пошел по ней до Военного училища. Там ему бросились в глаза фонари большого кафе. Он увидал на стеклах надпись: «Завтраки и обеды по прейскуранту и по заказу». Тогда, вспомнив, что он вышел пообедать, он вошел в кафе.
Это был ресторан, наиболее посещаемый офицерами Военного училища. Большинство из них было в штатских платьях, кое-кто в форме. Все очень шумели вокруг столов с грубоватыми тарелками и вылинявшей мельхиоровой сервировкой. Здесь были также женщины, дочери лейтенантов, одетые по провинциальному. Несколько работниц в темных платьях сидели за отдельными, столиками с мужчинами и разговаривали так тихо и так склонялись друг над другом, что сейчас видно было, что это влюбленные парочки.
Морис сел около самого шумного стола; он нуждался в развлечении, каково бы оно ни было. Он велел подать себе бутылку шампанского. Слуга, почуяв в нем посетителя, выходящего из ряда обычных, относился к нему с уважением и почтением.
Мало-помалу жара, шум, винные пары вытеснили из его отяжелевшей головы мучившие его заботы. После долгого обеда, он вышел из ресторана и снова пошел по аллеям, обогнув Марсово поле. Только ветер разгуливал по опустевшим улицам, по которым еще недавно сновала толпа. Окружающий простор и смутное сознание какой-то свободы отрезвили его. Несмотря на горе, несмотря на неспособность в данную минуту размышлять и мечтать, им овладевало чувство возрождения, какая-то тайная надежда оживала в его сердце. Какой колеблющийся свет занимался и начинал сиять во мраке его души?
О, как тревожны и мятежны даже самые искренние человеческие сердца! Никогда еще он не чувствовал с такой ясностью, что это сердце не более чем игрушка в руках судьбы. Оно еще сочилось кровью, на щеках Мориса горели следы слез Жюли, на его глазах заметны были недавние собственные слезы, но вот он уже сознавал, что возрождается, что какие-то неведомые голоса зовут его к порывам новой нежности, к иным слезам, к иным радостям, к будущему!…
Этот вечер, который он провел гуляя по берегу Сены далеко, далеко до Anteuil, затем по бульварам, наконец по пустынным аллеям Muette, - этот вечер оставил в нем навсегда неизгладимое воспоминание, как о чем-то грустном и полезном, памятном и смутном. Он вспоминал о нем, как мог бы вспоминать червяк о своем заточении в куколке, из которой он вышел бабочкой. В нем зарождались таинственные силы какого-то неведомого могущества и он чувствовал, что без этого внутреннего сознания у него не достало бы храбрости жить.
Когда окончился этот нравственный кризис, при котором он присутствовал как посторонний наблюдатель при военных действиях? Когда он вернулся к себе, лег, уснул? Он этого не знал. Он не мог бы ответить себе на эти вопросы, когда проснулся на другое утро с чувством необыкновенного утомления. Привратница стояла у его изголовья, подавая ему только что полученную депешу.
Она была от Жюли и заключала в себе только следующие слова:
«Ваше возвращение известно у нас в доме. Клара и ее отец ждут вас: приходите сегодня утром, не опоздайте.
Ваш старый друг Жюли».
Это все, и как это просто! Как легко распутывается этот страшный кризис! И в его, уже очищенной вчерашним волнением совести, все разрешалось само собой. Частица его сердца замерла. Ну что же? Он будет жить с тем, что ему осталось; его болезнь излечена, он инвалид, но он здоров.
Наконец-то его покидала обычная безнадежность; он надеялся, он хотел надеяться; он был полон сил и молодости, для того, чтобы проложить себе дорогу к будущему.
«Кто-то страдает из-за меня. Но что я могу, что я могу сделать, чтобы прекратить это страдание? Да, я принимаю жертву. Но разве каждое живое существо не живет жертвами других существ?»
И думая о бедной Жюли, о ее измученном и разбитом сердце, он понял, что она играет для него роль матери, что она переродила его, что она в своем материнском самопожертвовании давала жизнь новому человеку.
«Ну, - произнес он громко, - надо действовать».
Он торопливо оделся, стараясь удерживаться от мечтаний. Он сел в фиакр, крикнул кучеру адрес отеля Сюржер. Минутами его сердце мучительно замирало: «Что-то ужасное происходит… готовится произойти». Тогда он заставлял себя смотреть на дома, на вывески, на деревья… Он, наконец, постиг тайну энергичных людей не думать во время действия.
Когда ему отворили наружную дверь, через порог которой он переступил только раз, он сказал себе: «Я переступаю через фатальный ручей моей жизни». Глухое рыдание подымалось в его груди и ему казалось, что его заставляют делать то, что он сейчас сделает. «Вполне ли ты уверен, что это будет счастьем?» - говорил ему в глубине души какой-то голос. Он не хотел его слушать и торопливо поднялся.
Но что это? Разве что пустой, необитаемый дом? Почему никто не выйдет к нему? Он остановился на пороге моховой гостиной, затем вошел.
Он тотчас же увидел «ее», ту, из-за которой и для которой он страдал, ту, которую он завоевал теперь ценой агонии другой женщины. Он увидал, что она ждет его, похудевшая, побледневшая за свою болезнь, но улыбающаяся, торжествующая. Сколько сложных измен, сколько страданий в изгнании, сколько пролитых слез ради этого слабого ребенка! Она казалась ему хрупкой феей, господствующей над его жизнью: своими тонкими пальчиками она порвала оковы трех человеческих жизней и соткала из них свое платье феи…
- Клара!
Она старалась ему улыбнуться; он видел ее слишком черные глаза, слишком белую кожу, ее губы, не побледневшие даже после долгой болезни; кровь прилила к ее щекам и зарумянила даже уши. Он заключил ее в свои объятия, притянул к себе.
- Ах, я тебя люблю, я тебя люблю!…
Он горячо поцеловал ее в лоб. Оковы были порваны. Радость победы изглаживала из его сердца последние угрызения совести, последнюю жалость, последние тени сожаления.
Но слова не выражали их мыслей, силы покидали их обоих. Клара откинулась в кресло, на котором она сидела, Морис был у ее ног. И в эту минуту, когда кончалось все его прошлое, когда для него во всем мире существовала только одна эта девушка, он почувствовал желание прильнуть к единственному убежищу, которое оставалось ему в жизни. Он склонил свою голову на эту слабую грудь, как когда-то на грудь своей красивой матери, как еще вчера на грудь Жюли.
Вдруг Клара прошептала:
- Морис!
Он поднял голову, оглянулся. Жюли стояла в дверях, около драпировки. Она долго наблюдала, как любимый ею человек лежал на груди другой женщины; она была так страшно бледна, что Морис менее был бы поражен, если б она тут же мертвая упала на пол, чем видеть, как она прошла мимо них, точно сомнамбула, без слов, без слез, как она быстрым жестом отворила противоположную дверь и исчезла.
Она ушла, звук ее шагов, раздавшийся по ковру передней, уже не долетал более до их слуха… Они все еще прислушивались, взволнованные этим виденьем человеческого страдания… Они поняли, не признаваясь в этом друг другу, что иногда, в будущем, счастье их будет смущать воспоминание об этой пожертвовавшей собой женщины.
- Бедная! - прошептал Морис.
Клара склонилась на плечо своего жениха. Она была уверена в своем могуществе и протянула ему кубок забвения пережитых измен, - свои красные губы. Ее глаза ясно говорили: «Пей!»
Он наклонился, и в этом поцелуе сразу выпил забвение.
VII
У спуска к набережным Лионской станции, на бульваре Дидро расходилась группа, провожающая новобрачных на курьерский поезд, увезший их в Италию.
Домье пожал руки Эскье, Рие и m-mе Сюржер.

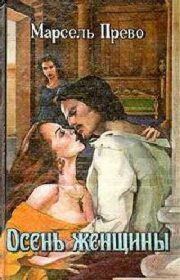
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.