- Я заставил тебя ждать? - спросил он. - Мне надо было кончить третью страницу. Еще одну до половины первого, и я на сегодня закончил свой трудовой день. Всякий день по четыре страницы, будь то роман, или пьеса - вот моя метода, - и, указывая мне на полке маленького низенького книжного шкапа длинный ряд корешков книг, менее кокетливо переплетенных, чем другие, прибавил - и вот результат.
- И ты можешь бросать и снова приниматься за работу, когда хочешь? - спросил я.
- Да. Это следствие навыка, видишь ли. Я урегулировал свой мозг так, как регулируют газомер. Такое сравнение тебя шокирует? Ты не размышлял так, как я, над глубоким изречением одного из великих учителей: - «Терпение это то, что в человеке более всего приближается, к способам, применяемым природой в своих творениях!…»
Никогда не делать ничего сразу и почти автоматическая регулярность - вот весь секрет таланта… Но поговорим о твоем посольстве к Камилле вчера вечером… Были слезы и скрежет зубовный, не правда ли?
- Вовсе нет! - отвечал я, не без удовольствия нанося легкий удар его самомнению, - она даже не хотела меня расспрашивать, чтобы не заставить лгать…
- Да, - сказал он, пожимая плечами, - это именно в ее духе. Всегда и во всем чуткость. Мы живем в забавное время. Ты встречаешь в женщине утонченные чувства, своеобразность, удивительную чуткость сердца, очаровательный ум и это маленькая грошевая актриса… У другой двести тысяч годового дохода, семья, имя, красота, положение в свете, и, черт возьми, она подлая комедиантка… Но если крошка и романтична, во всяком случае, она себе на уме. Камилла посовестилась расспрашивать, чтобы не заставить тебя выдать товарища, а затем она адресовалась куда следует, чтобы узнать правду. Она отправила к Фомберто нарочного рано утром…
- Ты, значит, его не предупредил? - Я думал зайти к. нему, как только выйду из дому… Она опередила меня, и Фомберто, не знавши ничего, ответил следующей запиской, - и он вынул из кармана бумажку. - Представь себе Камиллу, какою ты ее знаешь, читающей сие письмецо:
«Дорогой друг, черт побери мистификации и мистификаторов, употребляя любимое выражение вашего Мольера, за то, что они огорчили из-за меня Голубую Герцогиню. Я вовсе и не думал драться на дуэли. Ваш Жак вовсе не должен был быть моим секундантом. За исключением этого, все остальное - правда. Успокойтесь же насчет меня, а так как сегодня день моей хроники, простите, если я лично не приду поблагодарить вас, за ваше милое беспокойство…» К чему Камилла собственноручно приписала: «Так как вчера вы мне дали объяснение, оказавшееся ложным, то я имею право на другое, настоящее, и я его жду…»
- А в котором часу получил ты это письмо? - спросил я его.
- Минут двадцать пять тому назад. Посыльный ждет в передней. Я хотел повидать тебя и узнать, что она говорила. Я должен был бы знать, что это будет бесполезно и что с тобой она будет такой же «возвышенной душой», как ты сам…
Все та же история высоких душ и их слияния! Она ничего не потеряет от того, что подождала. Я отвечу ей и наилучшим манером…
- Мне бы очень хотелось знать, - спросил я, - какой новой выдумкой ты выпутаешься.
- Я? - возразил он, присаживаясь к маленькому столику, и перо его уже скользило по бумаге, - Никакой… Я ей пишу, что никакого объяснения давать не намерен, и не хочу, чтобы она позволила себе в другой раз сыграть со мною такую штуку, как обращение ее к Фомберто!
- Ты этого не сделаешь! - горячо перебил я. - Эта бедная девушка любит тебя всем сердцем. Она не могла вынести сомнения. Она подумала, что ты солгал ей, и хотела узнать правду. Разве это не естественно? Разве она не имела на то права? Будь же справедлив… Так просто выдумать другой предлог… Наконец, скажи ей правду, раз она тебя об этом просит: это будет ей менее тяжело…
- На это у меня есть только одно маленькое возражение, - отвечал Жак и, запечатав написанную им записку, придавил пуговку электрического звонка, чтобы позвать мальчишку в голубой курточке с золотыми пуговками, которому он и отдал письмо, - а именно, что я был бы вполне счастлив, если бы Камилла рассорилась со мной из-за этой маленькой записки. Вот еще правило, не менее абсолютное, чем принцип регулярности в работе. Если надо порвать связь с любовницей, то чем незначительнее повод для розыгрыша, тем он умнее. А мои дела в другом направлении идут так хорошо, что она мне уж больше не нужна для того, чтобы расшевеливать ее соперницу. Так как ты мой зритель и так как я знаю, что ты молчалив, как могила, то мне очень хочется рассказать тебе все, невзирая на громкие фразы о скромности, тем более, что это сообщение может компрометировать только меня, пока… Тут действительно замешана могила, и могила великого человека - опять!… Словом, я вынудил у г-жи Бонниве согласие на свидание. И где?… Держу тысячу против одного, что ты не угадаешь. На кладбище Реге-Lachaisе у могилы Мюссе - точь в точь как с той. Ты не находишь, что это прелестно? От кладбища до фиакра, как от великого до смешного, один шаг, а от фиакра до известной мне холостой квартирки - так же, как было с той, - такова программа, - еще шаг.
Знаешь, никогда не надо принимать женщин у себя. Третье правило… При настоящих обстоятельствах, пусть Камилла порвет отношения со мной сегодня, тем лучше, тем лучше!… Однако, не строй мне такой физиономии, которая говорит: «Милый Молан, вы изверг!» и позволь мне выпроводить тебя - ради четвертой страницы…
Если бы я еще сомневался в слишком сильном чувстве, которое внушала мне прелестная Камилла, сомнение мое моментально исчезло бы теперь, настолько жестоко было волнение, испытываемое мною при этой циничной речи. Для меня слишком очевидной стала истина той драмы, в которую я был внезапно вовлечен в качестве зрителя, но в некоторых дуэлях опасение за очень дорогую жизнь, часто заставляет секунданта бледнеть более самого дуэлиста. Страстная любовь маленькой Фавье служила Жаку средством воздействия на самолюбие пресыщенной светской женщины, кокетки и холодно развратной, без сомнения, но элегантной, возбуждающей зависть и богатой, к которой его привлекали тщеславие и любопытство. Сердцу бедной актрисы, сохранившему наивность и романтизм, несмотря на самую разочаровывающую среду, в которой ей пришлось вращаться, сердцу, такому искреннему, искренность которого чувствовалась мною в те минуты, когда она открылась мне с такой непринужденностью под гнетом мучительного страдания, предстояло быть разбитым, растерзанным, раздавленным в борьбе двух самолюбий, и каких самолюбий! Самых жестоких, самых неумолимых из всех, - самолюбия полувеликосветской женщины и самолюбия полувеликого писателя, которые оба были, как гангреной, заражены эгоизмом вечной выставки напоказ, иссушены постоянным и отвратительным изучением эффектов, которые им предстоит произвести и без которых нет возможности удержать за собою непостоянный престиж моды. Подчиняясь какому-то ужасному ясновидению, я сразу смерил глубину той пропасти, в которую катилась моя вчерашняя импровизированная приятельница. Крайняя ясность этого видения помешала мне ответить Жаку, как он того, без сомнения, ожидал, рассчитывая позабавиться моею наивностью, вызвав во мне чувство возмущения. Он посмеялся бы надо мной, а мне было бы больно от его насмешек.
Он громко высказывал бы тот совет, о котором его загадочная улыбка, казалась, шептала мне: «Если она тебе так нравится, то место утешителя теперь свободно…» Я могу отдать себе справедливость в том, что сам не сказал себе этих гнусных слов. Впрочем, в этом нет никакой заслуги. Можно ли ставить нам в заслугу то, что мы отказываемся профанировать в себе образ, который нам и нравится только трогательным и чистым? И как бы странны ни казались эти слова в применении к девушке, которую я знал за любовницу одного из моих товарищей, я уважал в Камилле то безумие иллюзии, которое заставляло ее ставить на карту драгоценное сокровище нежных грез наивной чувствительности и благородных порывов своих двадцати двух лет. Я уважал в ней и ту мечту, которую я пережил, благодаря ей. Во время нашего разговора накануне вечером она затронула самые сокровенные мои мечты, и я говорил себе с грустью, что мог бы встретить ее немного раньше, когда она еще не отдалась Молану, мог оценить ее, понравиться ей и, как знать, быть может, это неразумное и нежное дитя обратило бы на меня потребность занять по отношению к другому художнику столь осмеиваемую и вышедшую из моды роль музы и вдохновительницы. Какой служитель красоты, однако, не вздыхал о присутствии около него прелестной умной женщины, милого и преданного личика, которое придавало бы ему мужества в часы утомления, двух слабых, но надежных ручек, которые он мог сжимать своими усталыми руками, верного плеча, на которое он бы мог склонить свою измученную голову? Достаточно было на несколько минут приобщить к этой мечте имя любовницы Жака, чтобы у меня даже на секунду не являлось мысли о возможности вовлечь с досады бедную девушку в банальную интригу. Но хотя я и не питал нечистых намерений, моя симпатия к ней, уже несколько болезненная, не могла не усилиться во время этого разговора с моим товарищем. Вот почему, вместо того, чтобы написать натурщице Мальвине, согласно благоразумному решению, принятому несколько часов тому назад, вслед за неблагоразумным визитом этого утра, я сделал еще более неблагоразумный визит днем, и этот безрассудный день завершился третьим визитом, еще более безумным. Начинался период безрассудств. Он еще не кончился, потому что перо дрожало и сейчас в моей руке, когда я передавал жестокие слова Жака Молана.
А в ту минуту, когда я собирался передать подробности тех других двух маленьких эпизодов, которыми закончился пролог этой интимной трагедии, я должен был положить перо - мне было так больно от моих воспоминаний, как болят плохо закрывшиеся раны. Однако, по какому-то странному, необъяснимому для меня противоречию эти мучительные воспоминания полны привлекательности, очарования, прелести. На душе у меня становилось тепло, как только я отдамся им.

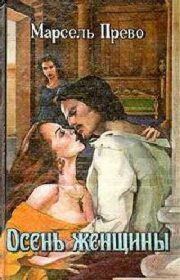
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.