- Мы надеемся на это, - сказал барон Рие.
- Ах! В таком случае!…
- Конечно, мы надеемся. Неужели вы думаете, что мы хотим помешать неизбежному и в сущности вполне законному кризису?.
- Нет, - сказал Морис, - вы хотите только «участвовать в нем», вот и все.
- Мы хотим, - продолжал барон, - чтоб этот кризис был эволюцией, но не революцией. Я тут не вижу никакого личного эгоизма. Мы думаем, что видим истину лучше чем те, кем мы управляем; мы стараемся показать ее им, а главное принести им некоторую материальную пользу.
Разговор продолжался на эту тему; вспоминали прошедшее, исторические факты. Сюржер принимал в нем участие, вставляя свои умные, короткие, иронические фразы, разбившие закругленные и несколько проповеднические фразы барона. Морис увлекался, изменял свои мнения, поддерживал чужие, изменял им и в конце концов забывал разговор, устремляя взгляд на г-жу Сюржер. Наконец, барон из вежливости обратился к Кларе, слушавшей молча:
- А вы, м-ль, какое ваше мнение на этот счет? Как надо относиться к бедным?
Морис засмеялся; Клара, не смущаясь ответила:
- Мне кажется, что надо делать как папа…
- А что делает «папа», м-ль?
- Он любит их, монсеньор.
«Папа», недовольный тем, что его впутали в это дело, - объявил, что «эта маленькая не знает, что говорит». Но все согласились с ее мнением. Всем была известна широкая благотворительность Эскъе.
Г-жа Сюржер подтвердила общее мнение.
- О, наш дорогой компаньон, - это святой.
Эскье пожал плечами. Склонившись над Жюли, он сказал ей:
- Если я святой, то что же вы в таком случае, мой дорогой друг? Я стараюсь быть справедливым… Это вы святая.
И он шепнул ей на ухо так, что только слышала она одна:
- У вас теперь есть даже искушение!…
Она покраснела до самых корней волос. В первый раз Эскье намекал на ее слабость; до сих пор он не подавал даже виду, что замечает что-нибудь. Она была очень рада, что приход нового гостя позволил ей скрыть ее смущение. Это был человек такого высокого роста, что казался худым; черные волосы были разделены пробором посредине головы, он смотрел в пенсне своими круглыми, напоминающими сову глазами. Красивая голова казалась маленькой; черная, седеющая борода была почти выбрита на щеках и закруглялась у подбородка.
Доложили: «Г-н доктор Домье».
Лотарингец, как и Жан Эскье, моложе его на десять лет, был его старым, верным другом. На склоне жизни мы всегда питаем какую-то нежность к товарищам на шей юности, в них мы как будто любим себя.
Кроме этой любви, в отношениях Домье и Эскье было и нечто более редко встречающееся: каждый из них представлял друг для друга идеал человека. Домье восхищался прекрасной жизнью Эскье, полной честной благотворительности при его вечных денежных операциях. Эскье восхищался бескорыстием своего друга, который к тридцати годам уже бросил свою богатую клиентуру, чтобы отдаться науке. В настоящее время Домье был женат, имел двоих детей, не служил, не занимался практикой, а проводил все время в лаборатории Salpetriere, где он старался упрочить на новых началах доктрину экспериментальной биологии. Это был категорический ум, с непоколебимой волей, не скрывавший своего презрения к условным правилам нравственности, не обращавший никакого внимания на критику его личных поступков, и занимавший в этом доме роль оракула. Морис Артуа уважал его, как искусного партнера в парадоксах, но застенчивая Жюли его немножко побаивалась.
Он торопливо поздоровался со всеми.
- Я был приглашен сегодня на консультацию с хирургами Фредер и Роден, - сказал он, - и потратил целых четыре часа на бесполезный спор с этими упрямцами… Так как мне еще надо работать сегодня ночью, то я и зашел ненадолго посмотреть на вас и немножко освежиться. О чем вы говорили?
Барон де Рие объяснил ему вкратце в чем дело. Домье ответил с улыбкой:
- Ах, социализм! Вы так часто говорите об этом призраке, что кончите тем, что вызовете его.
- И вы думаете скоро?
- Бог мой… к концу века, почти в столетие крупных событий, или самое позднее - в начале двадцатого века. Видите ли, все интересуются наступающим столетием. Нелепое выражение fin de siecle, пугающее нас всюду, служит тому доказательством Франция и человечество, словно в хронической, но перемежающейся долгими периодами, лихорадке, чувствуют себя в центре того странного течения, которое опьяняло наших дедов сто лет тому назад. Мы видим дворян, как барон, и богатых буржуа, как Эскье, стоящих во главе движения четвертого сословия. Да, несомненно мы стоим на рубеже двух великих эпох. Только бы не было крови в разделяющем их рве!
- О, да, Боже мой, не надо смертей, не надо террора!… Дадим этим людям все, чего они желают!
Это Жюли говорила так; последние слова Домье возбудили в ней страх за опасность, которой может подвергнуться во время революции Морис - этот скептик с повадками задорной аристократии, презирающий народ. И остановившись на этой мысли, она обернулась к своему другу и уже не переставала думать о нем; она видела, что он что-то говорит, но не слышала его слов. Увы! Этому обожаемому, умному, красивому, любимому человеку она причинит страданье! Она скоро скажет ему: «Уезжайте!… Оставьте меня». Возможно ли, чтоб она допустила вырвать у себя такое обещание? Теперь все то, что она обещала аббату, и все его увещания, все это казалось ей невероятно далеким, в том прошлом, которое ее не касалось и за которое она не была ответственна.
Она снова стала вслушиваться в то, что говорилось вокруг нее. Как и всегда между светлыми умами, беседа свелась к защите противоречивых принципов. Барон де-Рие, католический философ, в своем роде светский священник, личная жизнь которого вполне согласовалась с его доктринами, считал неизлечимым социальное зло, пока религия не будет служить основой морали для народа.
- Да, конечно, общество нуждается в морали, - возразил Домье. - Но это утопия желать обосновать ее на религии, которой общество не желает…
- На что же тогда опираться?
- Да на те же самые основы, какие служили мне для моих личных правил; на согласовании моего внутреннего убеждения с интересами породы, к которой я принадлежу. Обе наши морали, ваша, Рие, как практика католицизма, и моя, как человека неверующего, разве они так сильно разнятся в своих выводах? Мы оба стоим за честность вместо воровства, за искренность вместо обмана, за супружество вместо вольной связи… Только вы признаете это во имя, а я смотрю на добродетель как-то инстинктивно, необдуманно, но очень глубоко и называю это своего рода специфическим эгоизмом.
В эту минуту Жюли подошла к Кларе.
- Милочка, - тихо сказала она ей, - не забывай, что завтра надо встать очень рано, чтоб ехать в Сион, и что теперь уже одиннадцатый час.
Молодая девушка встала, подставила лоб под ласковые поцелуи Жюли и Эскье, подошла и поцеловала в голову Сюржера; Морис рассеянно простился с нею. Затем, поклонившись барону и Домье, она ушла. Это, однако, прервало нить разговора и напомнило каждому - который час. Барон поднялся.
- Черт побери, уже четверть одиннадцатого! Сейчас окончится первая часть доклада.
Он стал прощаться.
- Вы идете в какую сторону? - спросил его Домье.
- К триумфальной арке.
- Ну так нам по дороге.
Вскоре после них ушел к себе Эскье. Морис и Жюли остались вдвоем, если не считать присутствия Сюржера, лежавшего неподвижно и, вероятно, спавшего.
Это был час, когда они каждый вечер уходили в самый далекий уголок моховой гостиной и садились на широкий диван в стиле Людовика XIV, обитый зеленоватой материей; над этим диваном стоял огромный букет из сухих трав, известных под названием «monnaie du pape». Там, в полутьме, их руки соединялись… Морис прижимался к своей подруге и склонял голову ей на грудь… И эта немая ласка, в которой Жюли давно уже не видела ничего преступного, часто длилась далеко за полночь.
Морис уже сидел на диване и ждал ее. Он был удивлен, что не видит ее на ее обычном месте подле него. Она перелистывала журнал дрожащими пальцами, с рассеянным взглядом…
Он позвал вполголоса:
- Йю!
И это обычное интимное обращение, звучавшее обыкновенно так нежно в устах молодого человека для слуха г-жи Сюржер, теперь кольнуло ее и пробудило голос совести.
«Как я была неосторожна!… я дала ему все права на меня; я уже ему почти принадлежу, как же мне вернуться назад теперь?…»
Необходимо было, однако, подойти, чтоб поговорить с Морисом. Она мысленно обратилась к Богу.
Она подошла и села около него; он тотчас же протянул руки, желая сжать ее в своих объятиях; он предчувствовал что-то нехорошее. И действительно, она отстранилась от него, пролепетав:
- Полно, Морис, будьте благоразумны!
Он отодвинулся в свою очередь, охлажденный этими словами, неожиданными после ласки последних недель, на которые она понемногу, наконец, согласилась. Его светлые глаза как-то побледнели; он беспомощно опустил руки на диван и испытующим взором всматривался в глаза Жюли. Она уже смутилась; она испугалась, увидя его таким взволнованным еще до признанья… Она мысленно вызывала вдохновение, чтобы в твердых и в то же время нежных словах, не доставляя ему больших страданий, сказать все что надо. Но Морис не дал ей времени.
- Что-то есть, - сказал он. - Что же такое?… О, я с первой минуты был уверен, что случилось что-то!
И когда, чтоб заставить его успокоиться, Жюли указала ему на группу Хело и Сюржера, он прибавил, сделав равнодушный жест:
- Я был в этом уверен. Вы сегодня ездили на улицу Турин. И этот проповедник аббат Гюгэ расстроил вас. Ах, как вы плохо меня любите!…

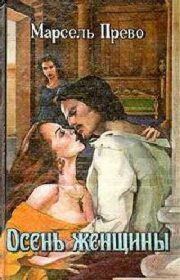
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.