Жила, так легко надувавшаяся на его сангвиническом лбу, его зеленоватые глаза, которые, как можно было себе представить, легко загорались злостью, рыжие, жесткие волосы, покрывавшие его руку до суставов пальцев, все эти признаки грубости продолжали поддерживать во мне впечатление, что этот человек опасен. Сделать что-нибудь ужасное должно было казаться ему таким же естественным, как болезненная робость во мне и нахальное самомнение в Жаке. Этому вечеру не суждено было окончиться без того, чтобы я не получил доказательства, что мои различные инстинктивные, предположения не обманывали меня. Как только мы вышли из-за стола и направились в курилку, Машо, взяв меня под руку, сказал:
- Вы ведь часто видитесь с Жаком Моланом? Не правда ли?
- Мы школьные товарищи, и я вижусь с ним иногда, - уклончиво отвечал я.
- Ну, так если вы увидите его на днях, то предупредите, что Сеннтерр встретил его по дороге сюда… Следовательно будут знать, что его мигрень или простуда не более как предлог. Не то чтобы это было важно, но с Анной всегда лучше быть настороже.
Я не имел времени подробнее расспросить этого храброго фехтовальщика, который произнес загадочное «будут» и еще более загадочную последнюю фразу с неопределенной улыбкой. Пьер де Бонниве подходил к нам, держа в одной руке ящик с сигарами, а в другой коробку с папиросами. Я закурил простую русскую папиросу, щепотку желтого табаку, завернутую в маисовую бумагу, тогда как здоровенный гладиатор взял в рот целый древесный ствол, морщинистый и черный. Потом, перед кофе, увидев на столике с ликерами между прочими бутылку коньяку, он налил себе маленькую рюмочку и отправился смаковать его на кресле, сказав нам:
- Вот это - наилучшее, первейшее средство возбудить аппетит к вечеру.
- А вы, г-н Ла-Кроа, чашечку кофе? Нет. Немножко кюммелю или шартрезу, - спросил меня Бонниве, - или, может быть, рюмочку cherry-brandy?
- Я никогда не пью ни ликеров, ни кофе вечером, сказал я и прибавил, улыбаясь - Я не обладаю желудком и нервами геркулеса…
- Не надо обладать силой Машо, чтобы любить спиртные напитки. Посмотрите на нашего приятеля Молана, - сказал муж, присматриваясь к тому, как я приму произносимое им имя, и, помолчав, прибавил:
- Не знаете ли вы, что именно с ним?
- Не знаю, - отвечал я. - Он переутомляется. Он работает еще больше, чем пьет.
- И еще больше любит маленькую Фавье? - настаивал он, снова смотря на меня своим пронзительным взглядом.
- И еще больше любит маленькую Фавье, - отвечал я тем же равнодушным тоном.
- Эта история началась уже давно? - продолжал он, после минутной нерешительности.
- С «Голубой Герцогини». Словом, эта первая четверть медового месяца.
- Так значит, его нездоровье сегодня вечером, когда она как раз не играет? - спросил он, не досказывая всего вопроса, который я дополнил в своем ответе, придав ему циничную форму, в которой нашел облегчение своему неприятному чувству:
- Только предлог провести с ней весь вечер и затем ночь? Я ничего об этом не знаю, честное слово, но это очень вероятно.
Я мог видеть, как при этих словах - да простит мне их Камилла Фавье, если когда-нибудь она прочтет эти страницы - прояснилось чело этого ревнивца. Очевидно, что извинительная записка, присланная Моланом в последнюю минуту, показалась ему подозрительной. Он убедился, что г-жа Бонниве от этого нервничала, и спрашивал себя почему? Не предполагал ли он, что между его женой и Жаком произошла одна из тех минутных размолвок, которые гораздо более постоянных ухаживаний указывают на существование любовной интриги? Он счел меня наперсником своего приятеля. Он полагал, что мне известна действительная причина его отсутствия, и его подозрительность старалась уловить в моих словах искренний тон. А так как у ревнивцев все построено на воображении, и переходы от недоверия к доверчивости одинаково скоры, то и этот пришел снова в прекрасное настроение; обращаясь к входившему барону Дефоржу, который несколько запоздал присоединиться к нам, он сказал:
- Ну, Фредерик, довольны ли вы были обедом?
- Я только что позволил себе призвать Эли, чтобы поздравить его с успехом petites timbales и чтобы сделать ему замечание насчет foie gras… - ответил барон. - Я вам не скажу какое, вы сами увидите в следующий раз… Я вам всегда говорил, что это хороший повар, то, что я называю хорошим поваром. Только молод еще…
- Он образуется, - сказал Бонниве, бросив мне на этот раз многозначительный взгляд, - при таком учителе, как вы.
- Это седьмой уже проходит через мои руки, - сказал Дефорж, пожимая плечами и совершенно серьезно, - ни больше, ни меньше с тех пор, как я знаю, что такое значит есть. Седьмой, слышите! А потом я даю их вам, а вы мне их портите своими неуместными похвалами. Повара похожи на других артистов. Они не могут устоять перед похвалами полузнатоков.
Я стушевался из курилки после философской аксиомы этого эпикурейца, который благоразумно поставляет докторов кулинарных наук в те дома, где он обедает, обеспечивая себе таким образом меню зимнего сезона. Я рассчитывал взять свою шляпу в гостиной, пробыть там несколько минут, сказать несколько вежливых фраз в общем разговоре и удалиться затем a langlaise, воспользовавшись возвращением курильщиков или прибытием новых гостей. Когда я вернулся в салон, там были только две обедавшие дамы и Сеннетерр. Так как, такой маленький кружок не благоприятствует разговорам tete-a-tete, то я мог надеяться, что г-же Бонниве не представится случая поговорить со мной наедине и исповедовать меня. Я плохо знал эту капризную и властную женщину, а она прекрасно знала своего мужа. Она поняла, что не следует говорить со мной при Бонниве. Не успел я войти, как она встала с дивана, на котором сидела рядом с г-жей Эторель против г-жи Мозе, имея у ног своих, сидевшего на низеньком стуле Сеннетерра, державшего ее веер. Она подошла ко мне, увела меня в другой салон, находившийся рядом с первым, и заставила меня сесть рядом с собой на кушетку:
- Так нам будет спокойнее разговаривать, - начала она, потом вдруг круто перешла к вопросу. - Много вы подвинули вперед портрет м-ль Фавье?
У нее была такая манера спрашивать, в которой сказывался деспотизм красивой и богатой женщины, для которой тот, с кем она говорит, просто слуга, обязанный развлекать ее или давать нужные сведения. Каждый раз, как я встречаю в модной кукле это бессознательное нахальство, мной овладевает непреодолимое желание ответить ей какой-нибудь неприятностью. Жак, вероятно, имел в виду эту черту моего характера, когда хотел заставить меня разыграть роль подстрекателя, от которой я, однако, отказался с такой благородной энергией.
- Портрет м-ль Фавье? Но я даже и не начинал его, - отвечал я.
- А! - сказала она с улыбкой. - Молан уже раздумал. Он, верно, запретил ей. Вы влюблены в эту хорошенькую женщину, Ла-Кроа, признайтесь?.
- Я, - отвечал я, - влюблен в нее?… Ничуть не бывало.
- Однако, было на то похоже тогда, - сказала она, - и мне казалось, что Жак Молан немного ревнует вас?
- Все влюбленные более или менее ревнивы, - возразил я и, поддаваясь все более возраставшему желанию быть ей в тягость, я прибавил: - Он был бы совсем неправ, Камилла Фавье любит его всем сердцем, а его у нее много.
- Это большое несчастье для ее таланта, - сказала г-жа Бонниве, хмуря свои светлые бровки, и я понял, что попал в цель.
- Я не могу согласиться с вами, сударыня, отвечал я на этот раз с убеждением. - Маленькая Фавье обладает не только обаятельной красотой, но это в некотором роде гениальная натура, дивное сердце и очаровательный ум.
- Это трудно себе представить, видя ее игру, - отвечала она, - по крайней мере, по моему мнению. Но если это так, то тем хуже. Счастье никогда не вдохновляло ни одного писателя. Впрочем, я спокойна… Эта история долго не продлится. Молан узнает, что она ему изменила за кулисой с одним из актеришков труппы и тогда…
- Вам сообщили не точные сведения об этой бедной девушке, сударыня, - перебил я более живо, чем то требовалось правилами вежливости. - Она - воплощенное благородство, воплощенная гордость и вполне неспособна на низость…
- Что не мешает, ей быть содержанкой Молана, - прервала она, - если мне верно передали, и растрачивать весь его авторский гонорар до копейки…
- Содержанка? - вскричал я. - Нет, сударыня, вам передали не верно. Если бы она хотела роскоши, она имела бы ее. Она отказалась от отеля, лошадей, туалетов, драгоценностей, - от всего, что соблазняет женщин в ее положении, чтобы отдаться просто по влечению сердца. Она любит Жака самой чистой, самой искренней любовью…
- Я жалею ее, если вы правы, - сказала она насмешливо, - потому что он не многого стоит, ваш друг.
- Он мой друг, - отвечал я с задорной сухостью, - а я обладаю странностью заступаться за своих друзей…
- Что заставляет всегда немного больше на них нападать. - Изящное лицо этой красивой женщины выражало, в ту минуту, как она произносила это банальное замечание, такую противную злость, весь этот разговор выказывал с ее стороны такую отвратительную мелочность неприязни, что моя антипатия к ней дошла до ненависти и на дерзость я ответил ей также дерзостью:
- В том свете, в котором живете вы, сударыня, быть может, но не у нас простых, честных людей…
Она взглянула на меня в ту минуту, как я бросил ей прямо в лицо эту, мало остроумную, дерзость. Я прочел в ее голубых глазах менее гнева, чем удивления. Одной из отличительных черт, присущих характеру этих отъявленных кокеток, является уважение к тем, кто им не поддается, в какой степени и каким бы то образом ни было. Она улыбнулась почти любезной улыбкой.
- Молан, правда, говорил мне, что вы оригинал, - продолжала она. - Но, знаете, я тоже немного оригиналка, и думаю, что мы с вами сойдемся…

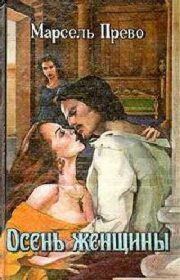
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.