- Она одна? - спросил я.
- Одна, - отвечал он, и, с фамильярностью лакея- холостяка, служащего более двадцати лет, - он был при последних минутах моего отца, и я говорю ему «ты» - прибавил. - Я должен сказать вам, г. Валентин, что она, повидимому, находится в большом горе. Она бледна, как полотно, и голос ее изменился, какой-то надтреснутый, глухой. Словом, можно подумать, что она не в силах говорить. Какая это жалость, она такая молодая и такая красивая!
- Ну, проси ее войти, - сказал я, - но больше не пускай никого, слышишь?
- Даже, если г-н Молан будет спрашивать вас? - прервал он.
- Даже, если г-н Молан будет меня спрашивать, - отвечал я.
Добрый малый улыбнулся улыбкой сообщника, в которой в другое время я непременно увидел бы доказательство, что он угадал тайну так глубоко сокрытых моих чувств.
Я не имел времени размышлять о большей или меньшей проницательности бедняги. Камилла была уже в мастерской и предо мной было изображение отчаяния - отчаяния, близкого к помешательству. Заставив ее сесть, я сказал ей: - Но, что с вами? И сам сел в сильном волнении. Она сделала мне знак, чтобы я ничего не спрашивал: она не в силах отвечать. Она приложила руки к груди и закрыла глаза, как будто внутреннее терзание там, в груди, причиняло ей боль свыше ее сил. Одну минуту я думал, что она умирает, настолько ужасна была бледность ее, судорожно подергивавшегося лица. Когда ее веки снова поднялись, я увидел, что ни одна слеза не омочила ее голубых, но в эту минуту таких мрачных глаз. Пламя самой дикой страсти горело в них. Потом глухим голосом, почти шепотом, как будто горло ее сдавливала чья-либо рука, она сказала мне, прижимая руки ко лбу в сильном волнении:
- Есть еще Бог, потому что я вас застала. Если бы вас не было дома, мне кажется, я сошла бы с ума. Дайте мне вашу руку, мне надо сжать ее, надо почувствовать, что я не грежу, что вы здесь, вы мой друг… Я так страдаю…
- Да, друг, - отвечал я, стараясь ее успокоить, - настоящий друг, готовый служить вам, слушать вас, советовать вам, мешать вам предаваться вашим фантазиям.
- Не говорите со мной так, - прервала она, вырывая свою руку и отодвигаясь с отвращением, почти ненавистью, - или я буду думать, что вы согласились обманывать меня вместе с ним. Но, нет! Этот человек обманывает вас, как обманул меня. Вы верите в него, как я в него верила. Ему было бы стыдно показаться таким, какой он есть, перед таким честным человеком, как вы… Послушайте, - она снова схватила меня за руку и придвинулась ко мне, так что я ощущал лихорадочный жар ее прерывистого дыхания, - знаете откуда я пришла, я, Камилла Фавье, признанная любовница Жака? Я пришла из комнаты, в которой эта негодяйка Бонниве отдалась ему, где постель еще не прибрана и тепла от тел их обоих. Ах, какая это мерзость, какая это мерзость!
- Это невозможно! - пробормотал я, страшно потрясенный словами, которые я услышал, и тоном которым они были произнесены. - Вы были жертвой какого-нибудь анонимного письма, какого-нибудь случайного сходства…,
- Слушайте дальше, - продолжала она почти трагически, и ногти ее впивались в мою руку, так сильно сжимала она ее своими пальцами, - вот уже восемь дней, как я не сомневаюсь в отношениях Жака к этой женщине…
Он стал вдруг снова нежен со мной той нежностью, на счет которой любовница не может ошибиться. Он щадил меня. В глазах его, когда он смотрел на меня, было особое выражение. У меня являлось желание вырвать этот взгляд, чтобы прочесть, что кроется за ним… И потом я находила вокруг его глаз следы сладострастия, так хорошо мне знакомые. Я узнавала во всем его существе ту расслабленность, которая у него была прежде, когда мы так страстно любили друг друга, а между, тем он избегал свиданий. Он все выдумывал предлоги, чтобы отдалить их. Вы видите, я говорю с вами так, как чувствую. То, что я вам говорю, быть может, грубо, но правдиво, так правдиво, как правдива была всегда я с ним и с вами. Ведь я, понимаете, я просила у него свиданий, я гонялась за ним, а он мне отказывал, он меня избегал. Надо ли еще других доказательств, чтобы быть уверенной, что любовник вас обманывает? Но, однако, за эту неделю я опять начала сомневаться. У меня был муж этой дамы. Она имела нахальство послать его ко мне! Он пришел с Сеннетерром просить меня играть у них на большом вечере, который они устраивают в будущий понедельник.
- Я даже получил на него приглашение, - перебил я, вспомнив вдруг, что я действительно получил пригласительную карточку, на которую даже не обратил внимания. - Я бы должен был удивиться этому. Понимаю. Это было ради вас.
- Ну, так вы меня не увидите там, - отвечала она тоном, от которого у меня похолодело на сердце, настолько он был свиреп, - и я имею некоторое основание предполагать, что этот вечер не состоится. - Потом с возрастающим гневом она продолжала: - И посмотрите, как я еще наивна! Когда этот болван муж просил меня об этом, когда, согласившись, я увидела, что Жака это не взволновало, для меня стало невозможным предполагать, что эта женщина действительно его любовница. Я не допускала мысли, ни что она может быть его любовницей, ни что он ее любовником. Я знала, что она страшная негодяйка, а его, его я давно оценила, вы помните? Но тут я видела с ее стороны такую наглую смелость, а с его стороны такую постыдную низость! Нет. Если бы сегодня утром еще пришли и сказали мне, что она его любовница, я бы этому не поверила…
Она, видимо, так терзалась тем, что готовилась рассказать, что ей пришлось остановиться. Ее руки, снова отпустившие меня, дрожали и глаза ее закрывались от чрезмерного страдания.
- А теперь? - сказал я.
- Теперь? - и она разразилась нервным смехом, - Теперь, я знаю, на что способны они оба, в особенности он. Ведь она - светская женщина, имеющая любовников. Такие не считаются. Но он, он! Поступить со мной так, как он поступил. Ах, несчастный! Ах, бессовестный!… Ах, я с ума схожу, говоря все это вам. Но слушайте, слушайте же… - продолжала она с бешенством и как бы боясь, что я прерву ее рассказ, - Сегодня в два часа должна была быть в театре репетиция новой комедии Дорсена. Он переделывает акт и репетиция была отменена. Я узнала об этом только в театре. Итак, в два часа я очутилась на Шоссе д-Антэн, имея впереди свободный день. Мне нужно было сделать несколько покупок в этом квартале. Я отправилась, и вот какой-то неуклюжий господин наступает мне на платье, почти весь волан которого обрывается.
Она мне показала, действительно, что большой кусок подола ее платья был оборван. Это было в улице Клиши и очень близко от Новой улицы.
Она посмотрела на меня, произнося эти последние слова, подчеркивая их, как будто они должны были пробудить во мне какую-то ассоциацию идей. Она увидела, что я не смутился. Удивление выразилось на ее напряженном лице, и она продолжала:
- Это название вам ничего не говорит? Я думала, что Жак, который вам все рассказывает, рассказал вам и это… Словом, - и голос ее еще упал, - там была наша квартирка для свиданий. Когда он стал моим любовником, мне так хотелось принадлежать ему у него, между тех вещей, среди которых он живет, чтобы каждую минуту, каждую секунду эти немые свидетели нашего счастья напоминали ему обо мне!… Он не захотел. Теперь я понимаю почему, и что он уже и тогда думал о разрыве. Тогда я верила всему, что он мне говорил, как делала все то, о чем он просил. Он уверил меня, что маленькая квартирка в Новой улице, куда он меня привел, была устроена для меня одной, что он перенес в нее старую мебель той квартиры, в которой написал свои первые книги, той, где он жил до переезда в улицу Делаборд. Как я была глупа! Как я была глупа! Но какая это низость лгать девушке, не имеющей ничего, кроме сердца, и отдающей его вам всецело, отдающейся вам всем своим существом!
Ах, как легко обманывать того, кто так отдается!…
- Но уверены ли вы, что он вас обманывал? - спросил я.
- Уверена ли я в этом?… И вы туда же? - отвечала она тоном страстной иронии. - Впрочем, сомневаюсь, чтобы вы стали защищать его, когда узнаете все… Итак, я со своим разорванным платьем была, как уже говорила вам, близ Новой улицы… Надо прибавить, что в силу все той же своей глупости, я принесла туда разные свои мелочи. У меня были там даже иголки и шелк. Моя мечта была сделать эту квартирку дорогим приютом для нас обоих, в котором Жак трудился бы над какой-нибудь любовной драмой, написанной около меня, для меня, в то время, как я занималась бы тут же, как его жена!… Мне пришла мысль пойти зашить свой разорванный волан в маленькой квартирке. Я хочу, чтобы вы поверили мне, если я поклянусь вам, что при этом у меня не было ни малейшей мысли о шпионстве…
- Я уверен в этом, - отвечал и, чтобы избавить ее от передачи подробностей признания, от которого, видимо, она физически страдала, я спросил: - И вы нашли квартиру в беспорядке, как вы говорили?
- Это было ужасно, - отвечала она и должна была замолчать на минуту, чтобы собраться с силами. - Уже потому, как было выбрано это помещение, я должна была бы давно знать, что Жак пользовался им для других. Это большой двойной дом, и квартира находится в корпусе, выходящем на улицу; швейцарская достаточно далеко от лестницы, чтобы можно было подняться так, что вас не увидят. Зачем такие предосторожности, если бы дело касалось меня одной. Разве я не свободна? Разве мне надо бояться того, что кто-нибудь увидит меня входящей, лишь бы только это не была моя мать. И потом взгляды этого швейцара, его необъяснимое выражение насмешливой вежливости, его подобострастие по отношению к Жаку, все бы указывало всякой другой на то, что эта квартира существует уже давно. Я так ясно сознаю это теперь, когда передаю это вам! И я не могу понять, как я могла так обманываться… Но я отвлекаюсь. Мои мысли бегут… бегут… Я остановилась на том, как я пришла в Новую улицу с моим разорванным платьем. У меня не было ключа. Жак никогда не хотел дать мне его, несмотря на мои просьбы.

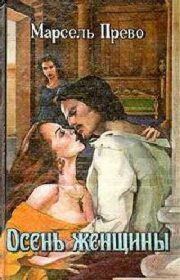
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.