- Итак, - сказала она с более горьким выражением и с улыбкой разочарования, в которой было еще столько любви, но навеки отравленной презрением, - он думает только о том, чтоб снова спасти эту женщину Он считает, что я еще недостаточно пожертвовала собой. Это, впрочем, логично. Когда начнешь, как начала я, надо дойти до конца… я дойду… И со складкой решимости на лбу, с холодным выражением глаз и нехорошим выражением рта она продолжала: - Хорошо, Винцент… Вы передали мне его слова, и я вам очень благодарна. Я знаю, чего вам это стоило! Но вы должны быть со мной откровенны. Вы обещаете, мне, передать ему в точности мои слова, не правда ли?… Скажите же г. Молану, что я буду играть у г-жи Бонниве, как было условлено, да, я буду играть там, и никто, понимаете, никто не будет догадываться с каким чувством… Но это с одним условием, передайте ему это хорошенько, что если он нарушит его, то и я от всего отступлюсь; я запрещаю ему, слышите, я запрещаю ему писать мне и говорить со мной до этого и после. У этой женщины он может обменяться со мной приветствием настолько, насколько это будет необходимо, чтобы не обратить на нас внимания. Вот и все. Я больше знать его не хочу, понимаете… После этого последнего поступка он умер для меня… Может быть, я и сама от этого умру, - прибавила она задыхающимся голосом, - но это кончено…
Она сделала руками такое движение, как бы разрывала невидимое условие. Её глаза на минуту закрылись. Черты ее исказились болью, потом эта девушка, полная такой женственности и грации, с грустным взглядом и милой улыбкой сказал мне:
- Оставьте меня теперь, мой друг. И вы также нс приходите ко мне, пока я вас не позову… Мы кончим портрет после… Я вас очень люблю… Я вас глубоко уважаю… Я к вам чувствую настоящую, истинную дружбу. Но, - и голос ее опять сделался сдавленным, - но мне надо забыть, чтобы пытаться все- таки жить. - И затем с красивым гордым движением своей белокурой головки и со смелым пожатием худеньких плечиков прибавила: - Я не могу еще слишком жаловаться. У меня осталось мое искусство…
Я знал, что Камилла неспособна не сдержать обещания, данного так серьезно, почти торжественно. Поэтому-то я и настаивал со всем остатком энергии на том, чтобы Жак точно выполнил условие, которого требовала актриса, и сам я, как мне не было тяжело, имел мужество держаться со всей строгостью программы отсутствия и молчания, благоразумие которой я вполне понял.
Известные нравственные страдания требуют, как и некоторые физические болезни, мрака, отсутствия движения, как бы полной остановки жизни. Несмотря на мою полную веру в слово Камиллы, я, все же испытывал некоторое беспокойство, отправляясь несколько дней спустя на вечер г-жи Бонниве. Я знал, что бедная «Голубая Герцогиня» если и не совсем выздоровела, то во всяком случае поправилась настолько, что снова выступила в театре. Говоря о том, что выполнил назначенную ею программу со всей строгостью, я должен, однако, прибавить, что позволил себе раз пойти посмотреть ее игру, не считая этого изменой нашим условиям, так как она не видела меня, спрятавшегося в ложе закрытого бенуара, и я с чувством облегчения убедился в том, что в ее игре до и после кризиса не было разницы. Из этого я заключил, что она снова отдалась своему искусству, как она мне говорила, этому культу сцены, составлявшему, благородный энтузиазм ее мечтательной юности, и я надеялся, что эта любовь, которая не изменяет, залечит рану, нанесенную другой любовью. Но в карете, которая мчала нас, Жака и меня, из Кружка, где мы опять обедали вдвоем, в улицу Экюри д-Артуа, эта уверенность уступала место опасению, невзирая на оптимизм моего товарища, снова превратившегося в человека с невозмутимым апломбом, который, казалось, родился для того, чтобы действовать в ложных положениях.
Мне очень любопытно, - сказал он, - что она приготовила для этой публики из щеголей и щеголих. Она обещала главную сцену из «Голубой Герцогини» с Брессоре, потом несколько монологов и имитаций… Тебе она незнакома с этой стороны? У нее, как и у всех актеров, есть способность к подражанию…
- Имитации! - повторил я. - Эти светские люди удивительны! Лишь только в руки к ним попадет артист или артистка с талантом, как ими овладевает все та же мысль: унизить этот талант, заставив того или ту, которая им владеет, сделать из него потеху для них… Если это художник, как Миро, то они заставляют его писать портреты, приторные до отвращения и годные разве для конфетных коробок! Если это писатель, как ты, то подавай им ходульные пьесы, прозу, разведенную водой, как телячий бульон, поэзию на розовой водице!… Если это музыкант, то живо давай им романс для фортепиано! А если это актриса с огнем, обладающая темпераментом, страстью, как Камилла, ну, так надо ее заставить гримасничать и ломаться! Какая глупость! Бог мой! Какая глупость! И зачем мы едем к этим ветреникам?
- Тебе бы больше нравилось, - насмешливо отвечал драматург, - слышать жалобы Ифигении или Эсфири, в десяти шагах от буфета, уставленного страсбургскими пирогами и сандвичами, пуншем и оранжадом, шоколадом и замороженным шампанским? Нет, честное слово, ты мне кажешься удивительным. Если бы ты обладал хотя бы самым легким оттенком высшей иронии, без которой жизнь не представляет ни малейшей соли, ты нашел бы превосходным, что моя хорошенькая «Голубая Герцогиня» спасла честь и, может быть, жизнь моей очаровательной «Королеве Анне», и что они встретиться так лицом к лицу, одна - в роли парижской львицы, окруженной поклонением и уважением, другая - паясничающая перед залом, полным праздных мужчин и праздных женщин, и к ним в придачу я! Я сожалею только о том, что для полного блеска положения недостает того, чтоб я в течение этого дня имел свидание с ними обеими. Поверишь ли, со времени всех этих историй, Камилла опять возбуждает во мне желание, и я бы овладел ею снова, если бы не боялся испортить ее шедевр… Ну, да, шедевр разрыва!… Ведь нельзя не сознаваться, друг мой, что она создала его. И если бы Андрэ Марейль не покинул своего пера юмориста для того, чтобы облечься в платье префекта, если бы он продолжал его вместо того, чтобы подписывать полицейские приказы, то я посвятил бы его в данный случай.
Мог ли ты когда-нибудь вообразить себе более великолепный поступок любовницы, освобождающей вас от себя, оставляя по себе восхитительное воспоминание? Это решительно идеальнейшее из всех окончаний любовных интриг.
- Постарайся, по крайней мере, устыдиться своего эгоизма, - прервал я. Я отлично понял, что он рассчитывал позабавиться моим простодушием, и что он шутил. Но именно то, что он мог шутить при этих обстоятельствах, возмущало меня, и я продолжал, коснувшись его груди: - У тебя значит здесь ничего нет, так-таки ровно ничего, кроме стопы бумаги и бутылки чернил, если одна - мысль об этой любви, об этом самоотвержении, об этом страдании не внушает тебе ничего, кроме лишнего парадокса, вместо того, чтобы вызвать слезы на твои глаза?
- Никогда не следует судить о том, что чувствует другой, - отвечал он мне с внезапной серьезностью, которая так странно противоречила с его недавней насмешливостью.
Не скрывался ли где-нибудь в его сердце, отравленном светским тщеславием, коммерческими расчетами и литературным честолюбием, уголок нежности, слишком узкий, чтобы когда-нибудь распространиться до настоящей страсти, достаточно живучий, чтобы из него иногда сочилась кровь и не дотронулся ли я до тайной раны? Или не принадлежал ли он к тем сложным натурам, у которых остается как раз достаточная доля чувствительности, чтобы заставлять их страдать от того, что они неспособны чувствовать сильнее? Эти две последние гипотезы возможны в такой сложной натуре. Ими, по крайней мере, могла бы объясниться та аномалия, что талант, обладающий такой способностью правильно отмечать жизненные явления, связан с такой неумолимой жестокостью души, с такой систематической и утилитарной развращенностью ума. Ведь должен же он был списывать свои чувствительные страницы с натуры, а «для писателей, - говорил мне в былые времена Клод, мой милый друг, так дурно распорядившийся своим состоянием и своей жизнью, - натурой всегда служит собственное сердце!» Эта неразрешимая нравственная задача удивительного противоречия между личностью Жака и его творениями, никогда не поражала меня так, как во время этой быстрой езды в карете и в течение тех минут молчания, которые последовали за этой фразой, столь отличавшейся от других.
Он первый прервал это молчание, отвечая на мысль, которую мои упреки, вероятно подсказали ему:
- Впрочем, если бы можно было начать сначала, то я помешал бы этому вечеру… Он лишний… Я не знаю, какие новые сведения доставлены Бонниве, но он чрезвычайно мил со мной и со своей женой. Я застал их на днях после завтрака вместе, рассматривающими две парюры, принесенные их ювелиром… Что ты скажешь, между прочим, об этой семейной сценке?… Она, надев на шею жемчужное ожерелье, смотрелась в зеркало в то время, как муж говорил мне, - мне! - указывая на другое: «Которое вам больше нравится?» И она находила жгучее, пикантное удовольствие в этой, высоко комичной сцене. Я видел это по ее глазам, которые горели, как каменья в фермуаре ожерелья. Какой ценой вернула она себе это доверие?
- Так как дело пошло на откровенность, то как же подобные сцены и те выводы, которые ты на основании ее сделал, не заставили тебя схватить палку и шляпу и уйти с тем, чтобы больше никогда не возвращаться.
- В вас нет и никогда не будет понимания некоторых вещей, любезный Daisy, - отвечал он мне. - Узнайте же, что можно находить особое удовольствие, жгучее и жестокое в том, чтобы презирать того, кто возбуждает в вас желания, равно как и в том, чтобы обладать тем, кого ненавидишь… Вот в силу этого-то нравственного садизма королева Анна и удержит меня, быть может, надолго, также как ко мне привлекает ее ощущение опасности… Мы уже виделись с ней после той тревоги, в маленькой квартирке на Новой улице, поверишь ли? Решительно никакая тинктура шпанских мушек не может сравниться со страхом…

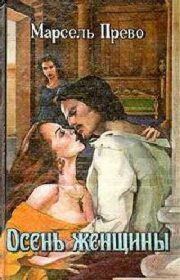
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.