Вместе с тем, я понимал, что письмо, которое писал Клод, предназначалось мне. В нем заключался совет относительно Камиллы, и я сознавал, что совет этот так настоятельно важен, что ждать было для меня мукой, которая еще усилилась, когда все вышли из-за стола, и я увидел, что Ларше уходит с бумажкой, не дав ее мне. Я пустился бежать за ним по бесконечному лабиринту лестниц. Чтобы поскорее спуститься с них, я бросился, ступив ногой в пространство и подскочив так, как будто меня подняли крылья, пока не очутился в саду, признанном мной за сад в Ногане, хотя я в нем никогда не бывал. Я с удивлением смотрел на прекрасное расположение клумб, в которых яркие цветы образовывали среди травы газона буквы и с остолбенением прочел в них ту фразу, которую мне сказал Жак: «Она уже раньше начала…» В ту самую минуту взрыв смеха заставил меня обернуться. Я увидел Камиллу с распущенными по ее изящным плечам волосами, страшно бледную в своем красном платье. Она принесла Туриаду записку, и я знал, что эта записка Клода. Это толстый человек лежал, с лицом еще более красным, чем обыкновенно, и причмокивал губами с тем сластолюбием, с каким обжора в трактире чмокает при виде вкусного блюда. В ту минуту, когда Камилла начала расстегивать платье, чтобы юркнуть в постель, я почувствовал острую боль, которая становилась просто нестерпимой. Я понял, что она собирается отдаться ему впервые. Я хотел бежать к ней, но снова непреодолимая неподвижность парализовала все мои члены, и я проснулся, обливаясь потом…
Раздумывая об этом сегодня, я совершенно ясно разбираюсь в различных элементах, породивших этот кошмар. Даже это странное видение Ногана объясняется тем, что героем «Адриенны Лекуврер» - пьесы, которой Камилла воспользовалась для своей мести, является Мориц Саксонский, дед Жорж Санд. Но когда переживаешь полосу слишком сильных нравственных потрясений, то забываешь, что во сне, как и на яву, столь же точные законы, как и законы химии, управляют этими внутренними осадками, нашими мыслями. Суеверие, таящееся в каждом из нас; смутно волнует нас, и нам хочется видеть в беспорядочных ночных видениях предчувствия, советы и откровения. Не успел я очнуться от этого тяжелого сна, как мной овладела мысль: «А что если этот вчерашний визит к Турнаду не окончился непоправимым падением?»
Разве не случается часто, что женщина соглашается на свидание, является на него и затем в последнюю минуту возмущается, с ожесточением защищается от физического посягательства на свою личность и уходит, отказав в обладании собой с такой же безумной энергией, как безрассуден был ее поступок. Почему я не допустил этого предположения накануне, и почему допускал его теперь? У меня не было на это никакой другой причины, кроме виденного мной сна. Этого было достаточно, чтобы я поспешно встал; было восемь часов, и я поспешил к известному дому в улице де ла Барульер. К счастью или к несчастью, потому что некоторая доля неизвестности в некоторые минуты равняется маленькой надежде, в ту самую минуту, как я постучал в окошечко швейцарской, чтобы спросить, несмотря на ранний час, дома ли м-ль Фавье, я увидел в этой швейцарской служанку, несколько раз провожавшую ко мне Камиллу. Эта пожилая девушка была та же самая, что отворила мне двери при первом моем посещении. Камилла родилась при ней, я это знал, и она говорила ей «ты». При виде меня, она бросилась вон из швейцарской с такой поспешностью, которая усугубила мои грустные предчувствия.
- А, господин Ла-Кроа! - сказала она мне, увлекая меня к пролету лестницы из страха, чтобы не услышали нашего разговора. - Вы пришли повидать барышню?
- Она вернулась? - вскричал я. И тут же понял, глядя на озабоченное лицо служанки, что ее вопрос был сделан для отвода глаз. Камилла не вернулась. Мое восклицание слишком ясно показало моей собеседнице, что мне что-то известно, и она сейчас стала меня спрашивать. Расспрашивать меня значило все мне сообщить.
- Послушайте, г-н Ла-Кроа, - сказала она мне с волнением и с мольбой сложила свои обезображенные, потрескавшиеся от грубой работы, слегка дрожавшие руки, - если вы знаете где она, умоляю вас именем вашей матери, сходите за ней… С той минуты, как вчера вечером кучер принес от нее записку, в которой она говорила, что не ночует дома, барыня просто с ума сходит от горя… Я не видела ее такой даже тогда, когда мы нашли барина с пулей во лбу… Она не перестает плакать, говоря: «Я не хочу больше видеть ее никогда, никогда. Я выгоню ее, если она вернется»… Она так говорит, но если Камилла вернется, я уверена, что она все-таки простит ее. Понимаете ли вы это, г-н Ла-Кроа?
Такая девушка, как она, умная, добрая, которая никогда не позволяла никому подступиться к ней? И мы с барыней говорили себе, что она выйдет замуж так хорошо, как та певица, что вышла за маркиза!… Нет, я не могу поверить, чтобы она могла свихнуться!… Г-н Ла-Кроа, вы такой добрый, скажите мне все, что вы знаете. Я ведь не кто-нибудь… я вырастила ее с малых лет… Из-за нее я не оставила барыни, когда все пошло прахом… Но не надо, чтобы швейцариха видела, что я так долго с вами разговариваю. Мне уж так трудно было объяснить, почему барышня не ночевала… Если она вернется, все обойдется…
- Увы, - отвечал я, не следуя ее приглашению подняться в квартиру, так я боялся горя ее матери, - я знаю не более вашего, доказательством чего может служить то, что я пришел узнать о здоровье мадмуазель Фавье, которая вчера вечером показалась мне не совсем здоровой…
- Она не у вас? - спросила старая служанка, пораженная моим замешательством. Она объяснила его себе по своему, и это подозрение слишком ясно указало на ту страстную привязанность, которую она питала к «нашей девочке», как она нежно называла Камиллу. Это отчаяние матери, это страшное беспокойство служанки окончательно раздирали мое сердце. Я еще раз убедился, в какой атмосфере искренней и простодушной нежности выросла бедная Голубая Герцогиня. Она тоже была одной из тех девочек, появление которых на свет празднуют, как торжество, и дальнейшие события жизни которых тоже составляют праздники: крестины, дни рождения, первое причащение, первое длинное платье, - и все это для того, чтобы предмет такой нежной заботливости кончил позором любовных похождений! А верная служанка продолжала, простодушно вторя моим горьким мыслям:
- Нет, невозможно, чтобы она была у вас, или у г-на Молана, или у г-на Фомберто, вы слишком порядочные молодые люди, чтобы сделать из такой барышни, как она, содержанку… Теперь она будет такой… Она, Камилла, Камилла, Камилла!
И, забывая свои собственные указания насчет необходимости избегнуть пересудов швейцарской, бедная женщина разразилась рыданиями. Я успокаивал ее как только мог, клянясь ей, что сделаю все на свете, чтобы повидать Камиллу в течение дня и сказать ей об отчаянии ее матери.
- Пусть она только вернется! - был единственный ответ, который она дала мне сквозь слезы, а также и следующие слова, восхитительные по бесстыдству ради преданности:
- Если она желает иметь шашни, я буду помогать ей, сколько она пожелает! Скажите ей это, пусть только остается жить с нами!…
Итак, свершилось. Драма страсти и вероломства, которой я был свидетелем в течение последних недель, пришла к своей логической развязке. Мой сегодняшний сон солгал. Было слишком поздно помешать тому, чтобы эта прелестная девушка, от рождения обладавшая самой редкой романической чуткостью ума и сердца, не стала продажной женщиной. Самая ее гордость, эта милая и трепещущая гордость, за которую я так любил ее, только ускорит ее падение. Когда пройдет тот приступ ярости, благодаря которому она очутилась в объятиях такого человека, как Турнад, то презрение, которое она почувствует к себе, слишком унизит ее в собственных глазах, и это внутреннее отвращение может привести только к двум результатам, одинаково страшным: или, не будучи в состоянии пережить этого унижения, она убьет себя, или же найдет своего рода скорбное тщеславие воплотить в себе тот тип оскорбительной роскоши и торжествующего бесстыдства, в который превращается великая актриса, ставшая знаменитой куртизанкой. Какой из этих двух выходов должен был предпочесть человек, любивший ее так, как я любил ее, той любовью, которая сначала была так неясна, а теперь так несчастна и так мучительна? Как та, так и другая перспектива была для нее так ужасна, что, несмотря на обещание, данное старой служанке, я принял твердое решение не видеться больше с несчастной девушкой и еще более благоразумное решение выполнить план, который смутно зародился во мне с тех пор, как я начал слишком хорошо понимать, что творится в моем сердце: уехать в Испанию или в Италию, в одну из этих солнечных стран, где душа, оскорбленная до самой глубины может, по крайней мере, окружить свою тайную рану уединением, светом и красотой. Я приказал моему удивленному слуге немедленно приготовить мои чемоданы для долгого отсутствия и принялся приводить в порядок этюды, потом перелистывал путеводители, заставляя себя погружаться в хлопоты этого поспешного отъезда. Новый и ужасный факт - падение Камиллы в объятиях Турнада, заслонил во мне все другие помышления.
Я забыл и г-жу де Бонниве, и вчерашнюю сцену, и самого Молана. Поэтому я ощутил нечто вроде перенесения в другую атмосферу, пробуждения к отвергнутой действительности, когда увидел этого последнего, входящим в мою мастерскую около половины третьего. Он был, однако, причиной того злосчастного нравственного крушения, в силу которого я страдал. Его я должен был проклинать и ненавидеть. Я почувствовал это, как только узнал его лицо, услышал его голос, дотронулся до его руки. У него было дурное выражение, то, что у него бывает в часы дикой жестокости, а его крайнее волнение было понятно из того, как он кусал свою нижнюю губу, причем профиль его, уже довольно острый, еще чуть заметно удлинялся, и то животное, которое скрыто в каждом из нас и которое в нем напоминает лисицу, так очевидно выступает, что самый ослепленный привязанностью друг в подобную минуту распознал бы его настоящий характер. Что касается меня, то, заметив на его лице отблеск самых дурных черт его натуры, я почувствовал внезапную антипатию, вызвавшую прилив желчи. Все страдания последних часов вылились в ней, и я встретил его настоящим потоком оскорбления:

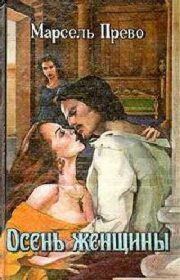
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.