Эта ужасная вспышка дурных чувств придала зловещий вид лицу моего товарища, который считается, и не без основания, красивым мужчиной, и может сделаться таким нежным и ласковым.
Он был ужасен в эту минуту, когда поразительным образом оправдывал обычные теории моего бедного Клода насчет той дикой ненависти, которая лежит в основе чисто чувственных отношений. Эта якобы любовь, в основе которой лежит жестокость, всегда возбуждала во мне такое отвращение, что я не мог жалеть Жака, хотя и чувствовал, что он несчастен настолько, насколько может быть несчастным. Кроме того, я ясно видел совершенную бесполезность той попытки, которую просил меня сделать отставленный любовник. Характер г-жи де Бонниве становился для меня вполне ясным. Я понимал, что, несмотря на свои претензии на умение хитрить, мой товарищ в сравнении с этой женщиной был тем, чем всегда будет даже самый испорченный из писателей перед настоящей злодейкой, безнравственность которой не является дилетантством, ребенком, несчастным фанфаронишкой в пороке, которого сразу раскусили и опутали. Безжалостная кокетка нашла удовольствие в том, чтобы разрушить счастье маленькой Фавье, удовольствие, которое эти существа, не способные чувствовать, находят в мучениях, причиняемых чувствам других. Она ясно читала в сердце Молана. Она действовала так, чтобы вонзить нож в самое больное место, и когда наступил желанный момент, она выгнала его, сделав свое дело, и с тем наслаждением, которое одно было ей доступно, наслаждением причинять страдания. А он, этот теоретик всех парижских безнравственностей, позволил произвести над собой этот маленький опыт, ничего не подозревая. Теперь он испытывал бессильную ярость относительно этой любовницы, которая играла им до тех пор, пока это угодно было ее деспотизму и ее скуке, а также ее нравственному садизму: это определение Молана было справедливо и подобная развращенность замечается во всех холодных женщинах, имеющих любовников. И она не оставила в его руках ни строчки, ей написанной, ни портрета, ничего, что могло бы доказать их связь. Нет, Молан не мог тягаться с ней, и если бы у меня не было других причин, я все же отказался бы сделать ту попытку, о которой он меня просил. Единственную услугу, которую следовало бы ему оказать, это было бы порвать его отношения к этой опасной женщине. Кроме того, заставить несчастную актрису снова принимать участие в этом деле, казалось мне так гадко, что я ответил ему, воспользовавшись его оскорбительным напоминанием о физическом обладании:
- Удовольствуйся этим удовлетворением твоего самолюбия: что касается другого, ты забываешь, каковы твои отношения с Камиллой…
- Как, - сказал он и прибавил следующую удивительную фразу, наиболее эгоистичную их всех, которые я от него слышал, - но раз я прощаю ей Турнада сегодняшней ночи!
- Но она, - отвечал я, - она, быть может, не простит тебе…
- Вот еще! - отвечал он. - Сходи-ка только к ней и попроси, чтобы она пришла сюда поговорить со мной несколько минут. Увидишь, откажет ли она тебе в этом. Ну, сделай это для меня… и для нее!…
- Нет, нет и нет, - отвечал я ему, наконец, с резкостью настоящего негодования, которая заставила его пожать плечами и взяться за шляпу, говоря:
- Ну, так я сам отправлюсь за ней.
- Но куда? - спросил я его.
- Туда, где она находится, - отвечал он мне.
- К Турнаду?
- К Турнаду… Со всем тем, ссора с этим негодяем, пожалуй успокоила бы мои нервы. К тому же Бонниве узнала бы об этом, и это было бы лишним доказательством того, что я продолжаю любить Камиллу. Впрочем, я спокоен, я найду у себя дома письмо от нее, в котором она умоляет повидаться с ней… Удивительно, что она еще утром не явилась.
Он снова стал Жаком Моланом лучших дней, человеком, полным самоуверенности и невозмутимо заявляющим о правах своей личности. Я с этих пор перестал ей подчиняться. Будет ли то же с Камиллой? Неужели ему удастся снова приобрести влияние над бедной влюбленной, которую он измучил до унижения? Тогда это будет еще новое, худшее унижение. Этот вопрос, который я задал себе, когда Жак, наконец, оставил меня, поверг меня в такую скорбь, что у меня явилось непреодолимое желание уехать, никогда больше не видеть их, ни ее, ни его, ничего больше не знать о них никогда. Я решился в этот же вечер прямо отправиться в Марсель. Там я решу, на какой пароход сесть. Я употребил оставшиеся часы на необходимые поездки в банк, в магазин красок, в бюро спальных вагонов, к двум-трем дальним родственникам, с которыми я еще поддерживаю отношения. Время от времени я поглядывал на часы и при мысли, что время подвигалось вперед, я физически ощущал, как у меня точно рукой сжималось сердце. Я заранее чувствовал холод того уединения, в котором я окажусь, покинув город, где живет и дышит моя единственная любовь.
Каково же было мое волнение, когда в шесть часов, в ту минуту, как я садился за обед, в столовой, расположенной в нижнем этаже дома, я услышал, как у подъезда остановилась карета. Раздался звонок у входной двери, потом голос того лица, которое мне больше всего хотелось и которое я более всего боялся увидеть, голос Камиллы Фавье!
- Вы уезжаете? - спросила она меня, когда я вошел в мастерскую, куда велел слуге проводить ее, - Я видела ваши упакованные чемоданы в передней…
- Да, - сказал я, - я хочу проехаться по Италии… - Она не подняла вуаля, как бы желая, чтобы я не разглядел ее лица. Этот признак стыда, который она испытывала в глубине души, был мне все же приятен. Это было еще одним из многих доказательств прирожденной чуткости, которое еще более раздирало мою душу при мысли о ее позорном падении и которое делало ее мне еще более дорогой, до страдания, до безумия дорогой.
- Когда? - спросила она меня снова.
- Через час двадцать пять минут, если поезд не опоздает, - сказал я шутливым тоном, посмотрев на часы, тиканье которых раздавалось в большой пустой комнате. Мы оба стояли молча, прислушиваясь к этому шуму времени, этим непреодолимым шагам жизни, которые привели нас к этой минуте, которые поведут нас неизвестно к каким другим минутам, в которых нам предвиделось столько позорного для нее, столько грустного для меня! Хотя мы и обменялись только этими незначительными словами, она знала, что мне все известно. Она села, опершись головой на руку, и продолжала:
- Очень жаль. Я хотела дать вам поручение к Жаку…
. - Какое? - спросил я весь дрожа; я предвидел ужасное сообщение, но, однако, прибавил: - Если я могу быть вам полезен, отложив отъезд…
- Нет, - сказала она со странной энергией, - не стоит. Лучше будет, если я и вас больше не увижу. Я хотела вернуть ему через вас это письмо, которое он прислал мне сегодня, смотрите по какому адресу, - и она протянула мне конверт, на котором я прочел название улицы Линкольн и фамилию Турнада, и она прибавила, уже менее твердым голосом:
- Я хотела просить его больше не писать мне, не искать меня ни где бы то ни было, потому что я более не свободна…
Наступила минута молчания. Она встала и, протянув мне руку, сказала:
- Я отошлю ему письмо сама и по почте. Так будет лучше… ну, Винцент, прощайте и желаю вам приятного путешествия. Вы будете вспоминать обо мне, не правда ли? И вы не будете строго судить меня… Ну, теперь поцелуемся, потому что Бог весть, когда еще мы увидимся!…
И, прижавшись губами к ее щечке, я почувствовал сквозь вуаль, что эта щечка мокра от слез. Больше не было произнесено нами ни слова. Я не мог ни о чем спрашивать ее. Она не хотела жаловаться. Ни одно прощанье, даже когда я прощался с умирающими, очень дорогими моему сердцу, не заставляло меня так страдать.
XI
Да, какое это было раздирающее душу и грустное прощанье! И, очевидно, оно наполнило меня грустью до самой сокровенной глубины моего сердца, потому что, описывая его теперь, я облил слезами бумагу и не имею почти сил снова взяться за перо, чтобы прибавить к этому настоящему роману мрачный эпилог, подстрекающая ирония которого, как принято выражаться в современном стиле, одна заставила меня решиться написать эти страницы! Двадцать пять месяцев… и такое долгое отсутствие не залечили тайной раны. Она снова открывается и истекает кровью при одном воспоминании о щечке Камиллы, совсем мокрой от напрасных слез под поцелуем друга, первым и последним, с которым я прикоснулся к этому прелестному личику, навеки оскверненному. Однако, если отсутствие и молчание являются двумя лучшими лекарствами против страсти без надежд и не знающей желаний, какой было мое странное чувство к этой несчастной девушке, я должен отдать себе справедливость, что добросовестно пользовался ими. И эти двадцать пять месяцев кажутся мне такими короткими, такими короткими в сравнении с теми несколькими неделями, которые я провел, следя час за часом за роковым приближением обманутой влюбленной к отчаянию и ко всему остальному, не пытаясь остановить ее. Подведем, однако, итог этим двум годам для памяти, а также для того, чтобы доказать себе, что мне нечего особенно жалеть о том, как я провел их. Прежде всего, я в тот же вечер поспешно бежал в Марсель; потом, уже на другой день, отправился в Италию морем, на одном из тех пароходов, которые через восемнадцать часов приходят в Бастию, а оттуда идут в Ливорно.
Я всегда предпочитал попадать таким путем в милую Италию, без остановок и сразу, а при данных обстоятельствах такое путешествие отрезывало всякую возможность получения телеграмм или писем, по крайней мере, в течение нескольких дней - от воскресенья до четверга. Бросит ли Камилла Фавье Турнада и снова впряжется в ярмо любовницы Жака, или нет? Осуществит ли этот последний свое нелепое намерение вызвать на дуэль своего нового соперника? Не доведет ли, напротив, его до безумия оскорбленное самолюбие до дуэли с Пьером де Бонниве? Это все были задачи, которых я не хотел себе больше задавать, так я устал. Боже, как я устал! Между прочим, я совершенно напрасно задавал бы их себе, потому что, говоря словами моего друга Клода, цитировавшего с таким наслаждение фразу Бейля по поводу смертной казни одного из своих героев, «все произошло просто и прилично». Я узнал подробности после, но гораздо позже. Пока я оставался в полном неведении и имел благоразумие продлить его. Только четыре месяца спустя, развернув случайно французскую газету в одной из гостиниц Перузии, я прочел в ней, что м-ль Камиллу Фавье будет дублировать м-ль Берта Винио в главной роли комедии Дорсенна, - это раз, как говорил некогда Молан, - что сам вышеупомянутый Молан печатает сборник своих театральных пьес с неизданным еще предисловием, - это два, что лошадь г-на Турнада, Баттерфляй, выиграла уж не помню какой приз на скачках, - это три, и наконец, что на одном из приемов у г-на Сеннетерра особенное внимание привлекли г-жи X., Y., Z. и де Бонниве - это четыре, и все эти новости заключались в одном нумере газеты, как изюмины в пудинге. Их было достаточно, чтобы доказать мне, что этот уголок света, как все уголки света вообще, оставался верным себе и что больших событий, к моему успокоению, не произошло. Но, со своей стороны, разве и я не остался верным себе, скопировав прежде всего в Пизе часть фреска Спинелло Аретино о св. Эфесе, потом в Прато - Саломею Фра Филиппо Липпи, чтобы затем писать этюд с Пьероделла Франческо д Арреццо, с его удивительного «Обретения Честного Креста»? А теперь я готовился ехать в Анкону через Фолиньо, потом в Бриндизи, чтобы отправиться в Афины и в Олимпию писать новыми видами самый ненасытный и самый бесплодный дилетантизм. Когда я подумаю об этой ожесточенной работе в напрасных упражнениях, я повторяю себе всегда другую фразу, которую всегда цитировал Дорсенн, восклицание умирающего Боливара, проникнутое такой мучительной усталостью: «Те, что служили Революции, пахали море!»

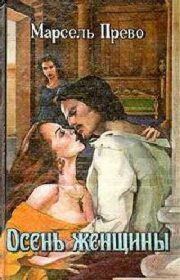
"Осень женщины. Голубая герцогиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осень женщины. Голубая герцогиня" друзьям в соцсетях.