— Я не задумываюсь, — говорит он. — Я просто живу… Пусть думают другие… Если пытаться решать чужие проблемы, можно свихнуться… Как только вы решите одну проблему, тут же возникнет другая… И так без конца… Я смирился. В моральном плане. Это все, что остается делать среднему американцу.
— Вы позволите задать вам один вопрос?
Теперь она говорит с ним на правильном литературном английском языке. По сравнению с речью Стива и его местным выговором изысканное произношение Анук звучит как вызов. И она это делает неслучайно.
— Валяйте.
— Почему вы так испугались на Потомаке?
— Испугался? — спрашивает он. — Я испугался?
Он повторяет вопрос как человек, не совсем понявший его суть. Затем он произносит с интонацией актера из Страфорда-на-Эйвоне:
— Неужели я ненароком напугал вас?
Он громко и заливисто хохочет.
— О, Боже! Как женщины все преувеличивают… У них такое богатое воображение! Разве я способен кого-то напугать?
Стив встает и поднимает поднос с колен Анук.
— На вашем месте, милая дама, — произносит он на самом изысканном французском языке, — я встал бы под холодный душ, чтобы успокоить нервы.
Укутавшись кое-как в простыню, она встает с постели и подходит к Стиву:
— Вы прекрасно говорите по-французски… Как вам удалось выучить французский язык так, чтобы говорить почти без акцента?
— Спасибо армии США, — отвечает он. — Нам с Фредом выпал шанс учиться на курсах специальной подготовки. Нашей великой стране порой нужны солдаты, говорящие на разных языках. После прохождения тестов нас отобрали для изучения французского языка… Многие вьетнамцы до сих пор говорят по-французски… А теперь, мадам, в душ.
Она открывает кран до упора. Ей хочется укрыться за стеной из водяных струй. Она смотрит на Стива сквозь потоки воды. Знакомая картина. Однажды она вот также смотрела на призрачный Лондон сквозь залитое дождем стекло. У нее есть еще время, чтобы задуматься над бренностью бытия. Она выходит из-под душа и вытирается банным полотенцем. Анук одевается перед зеркалом, покрытом подозрительными пятнами. Она собирает мокрые волосы на затылке в конский хвост.
Одевшись, она поворачивается к Стиву, который терпеливо ждет ее, негромко посвистывая.
— Со мной случилась ужасная история, — говорит она по-французски. — Глупее не придумаешь. Слава Богу, я могу говорить с вами на французском языке.
Он поглядывает на свою обувь, продолжая тихонько насвистывать какую-то мелодию. Похоже, что ему пришлось бросить в багажник и ботинки. Его сексуальная привлекательность бросается ей в глаза.
Она идет в атаку:
— Я не могу говорить с человеком, который свистит.
Он уже не свистит.
— Я совершила непростительную глупость, — говорит она уже не таким решительным тоном.
— И это все, что вы хотите сказать мне?
Он снова принимается насвистывать…
— Я влюбилась в вас, — говорит Анук. — И это меня бесит.
— Вольному воля… — говорит он, поднимаясь. — Влюбиться в меня — не самое лучшее, что вы могли придумать.
— Не могли бы вы хотя на секунду обнять меня, — произносит она низким голосом по-французски.
Он подходит к ней. От него исходит запах свежести.
Она прижимается к нему и шепчет:
— Я влюбилась в вас… Мне хочется жить с вами в одном доме, стричь газон, смотреть телевизор… И плевать я хотела на Дороти… Меня смущает только твой сын… Непреодолимое препятствие… Нельзя разрушить семью, в которой есть больной ребенок…
— Вот как, — произносит он.
Неожиданно он переходит на английский язык, словно хочет спрятаться за привычными словами. По-французски они звучат слишком откровенно и провокационно. Как женщина, разгуливающая нагишом перед пресыщенным любовником.
— Что? — спрашивает она. — Что?
— Вы не одна участвуете в этом деле… Вам кажется, что встретили любовь с большой буквы? На следующий день вы о ней и не вспомните. Однако вам в голову не приходит спросить меня о том, отвечаю ли я взаимностью?
— Вы никогда не полюбите меня, — с грустью отвечает она. — Я чувствую это. Вы любите Дороти, Дакки. К тому же я, как женщина, не в вашем вкусе… Вы подошли ко мне лишь потому, что надеялись на короткое любовное приключение. И вы получили все, что хотели…
Он смотрит на нее, словно размышляя о чем-то своем.
— Что вы знаете о том, какие женщины в моем вкусе?
— Ничего, — говорит она. — Ровным счетом ничего.
Она поднимает голову и произносит:
— Вы уже поддерживаете одного нравственного калеку, вашего друга Фреда. Запишите меня в список нуждающихся в вашей помощи. Вы тот человек, который мне нужен для восстановления душевного равновесия. С вами я чувствую себя в полной безопасности… Что вы на это скажете?
— Помочь вам обрести душевный покой… Однако вы должны сделать признание… Совсем маленькое… Скажите, что заставило вас сделать на шее эту татуировку?
— В знак присоединения к пацифистскому движению. Эти блаженные — единственные люди, которым я верю…
— И вы выбрали именно этот символ?
Стив легонько касается ладонью ее шеи. Какое блаженство кожей чувствовать его прикосновение!
Она смотрит ему в глаза.
— Стив?
Она чувствует, как пульсирует вена на ее шее.
— Да?
— Мне не дает покоя одна идиотская мысль… Прошу прощенья. Мне порой кажется, что вы хотите свернуть мне…
— Свернуть? Что? — спрашивает Стив.
Он изучающе смотрит на нее.
— Шею… Идиотская мысль…
Он, словно ошпаренный кипятком, разжимает ладонь.
— О! Боже! Женщины… Что только не приходит им в голову… Пошли скорее отсюда… Пока вы не придумали еще какую-нибудь глупость.
— Прости меня, Стив, — говорит она по-французски.
Она следует за ним. Улица встречает их нестерпимым зноем. Такая же духота в машине. Стив включает кондиционер.
Машина плавно трогается с места. Мужчина за стеклянной дверью бросает на них равнодушный взгляд. Он вовсе не видит их. Просто они попали в его поле зрения.
— Только не говорите Фреду о том, что только что сказали мне, — произносит Стив. — У него не такие крепкие нервы, как у меня. К тому же он совсем не знает француженок… Главное, не надо расспрашивать его о войне… Лучше расскажите ему о Париже… Возможно, ваш рассказ покажется ему интересным…
Позднее, уже на дороге, серой лентой извивающейся перед ними, он говорит:
— Моя единственная любовь — это…
— Что? — спрашивает она. — Что? Кто?
— Нью-Йорк.
И продолжает низким голосом:
— Я испытываю к Нью-Йорку особые чувства…
— Вы влюблены в этот город? — повторяет она свой вопрос.
— Для меня Нью-Йорк — единственная женщина, которая меня по-настоящему зацепила, — продолжает Стив.
Анук, словно зачарованная, вслушивается в американскую речь. Она звучит для нее как мелодия. Стив произносит нараспев слова. И она испытывает почти физическое наслаждение только от одного звука его голоса.
И, как бы рассуждая вслух, Стив продолжает:
— В Нью-Йорке жизнь бьет ключом… Огромный густонаселенный город. Вот где испытываешь подлинное одиночество. В плотной толпе ощущаешь себя более одиноким, чем Робинзон на своем острове. И никакой надежды на Пятницу… Одиночество посреди огромного города… В три часа ночи на Шестой авеню от неонового освещения светло как днем и совершенно безлюдно. И только одинокий прохожий нарушает своими шагами полную тишину… Это я…
— А что же Дороти?
Стив смеется.
— Она спит. В своем пригороде. Я же не каждый день совершаю такие прогулки… Лишь иногда… Мой глоток свободы… Нью-Йорк. Ночь. Одиночество.
Неожиданно она наклоняется и целует руку Стива. Ту, что держит руль…
— Осторожно, — говорит он сухим тоном. — Так можно попасть в аварию.
8
Пуэрториканка сверлит глазами темноту захламленного холла старого, в прошлом весьма импозантного дома, стоящего на 16-й улице. Тесное пространство, едва освещенное подслеповатой люстрой, превратилось для нее в воплощение вселенной.
Прислонившись к косяку застекленной двери, она наблюдает за молодым человеком. Квартиросъемщик названивает по телефону с такой упрямой настойчивостью, словно речь идет о его жизни и смерти. В порванных серых джинсах и мокрой от пота майке он с самым беззаботным видом беспрерывно накручивает диск телефона. Похоже, что ему совсем некуда спешить. Ему отвечают, он слушает и затем быстро вешает трубку. И все повторяется с начала. В тусклом свете телефонной кабинки силуэт молодого человека время от времени меняет свои очертания. Он то распрямляет спину, то раскачивает головой из стороны в сторону, словно находится под действием таблетки, которую он только что проглотил. Длинноволосый, с неровной кожей, он похож на падшего ангела, спустившегося в ад и устроившего там дебош.
Пуэрториканка смотрит на него тяжелым недобрым взглядом. Всей душой она ненавидит этого говнюка, сынка богатых землевладельцев из Техаса, недоумка с карманами, набитыми деньгами и наркотой. Она с удовольствием сняла бы с него живьем шкуру. И смотрела бы, как он корчился в смертных муках. Его приятели под стать ему: такие же патлатые говнюки, плюющие на всех и вся. Эти отбросы живут припеваючи. У них нет проблем. Они родились американцами. Они никогда не знали нищеты и эмиграции. Родители снимают своим дебильным отпрыскам меблированные квартиры в Вашингтоне, снабжают их деньгами, на которые те жируют, бездельничают и обкуриваются марихуаной.
И кому только может названивать этот сукин сын? Он произносит одни только междометия: «Ага, ага, ага…» И тут же заливается идиотским смехом. По какому праву он занимает телефонную кабинку, принадлежащую всем жильцам этого дома? И что будет, если вдруг ей позвонят из полиции…

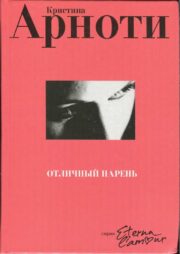
"Отличный парень" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отличный парень". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отличный парень" друзьям в соцсетях.