И лавиной надвигаются «шлеп-шлеп».
Они приближаются… Они совсем близко.
— Вокруг нас ни одной живой души! — восклицает Анук.
Душераздирающий крик. Почти рядом с ними. В одном из окон загорается свет. Выпрыгнуть бы из машины и бежать к этому дому. Стучать в дверь, звонить, звать на помощь.
— Никто не откроет, — говорит Стив. — Никто. В Вашингтоне никто не откроет дверь. Ночью.
Хлоп… Хлоп… Хлоп… Все медленнее и медленнее.
Стив резким движением включает фары.
Снопы яркого света высвечивают молодого человека в джинсах; он идет к ним, протянув руку к машине. Это тот, что «хлоп-хлоп». Издалека и вблизи, повсюду и везде раздается вой полицейских сирен.
Руки Стива замирают на руле. Вдруг появилась вся банда. Тех, что «шлеп-шлеп». Они скопом набрасываются на молодого человека. На «хлоп-хлоп». Он вырывается и бросается к машине. У него окровавленное лицо. Две кровавые дорожки стекают по его ногам.
— О, нет, — кричит Анук. — Нет! Они убьют его. Вы — садист, раз можете спокойно на это смотреть. Надо помочь ему; надо спасти его.
В свете фар к ним приближается окровавленный человек. Очень медленно. Неожиданно вся банда оказывается в кольце загоревшихся фар полицейских машин.
— У вас идет настоящая война! — восклицает Анук. — Здесь убивают людей! А вы позволяете делать это…
Она ловит ртом воздух. Пальцы Стива железным обручем сдавили ее горло. Его глаза совсем рядом.
Анук сопротивляется изо всех сил. Перед ее глазами плывут темные круги. Она пытается разжать его пальцы. Шум в ушах. Боль и страх. Д-ы-ш-а-т-ь… Шум и гам. Шаги. Шаги со всех сторон. Лиловая пустота. И слепящий свет в лицо.
Американец разжимает смертельное кольцо. Воздух… Он прикрывает Анук руками; он наклоняется к ней. Снаружи слышится американская речь.
— С вами все в порядке?
Запах Стива. Теперь он защищает ее от полицейских.
— Все в порядке, — произносит Стив низким голосом. — Это мое любимое место, чтобы показать его гостям.
— Мисс, мисс…
Она медленно поднимает голову. И тут же ее слепит луч огромного карманного фонаря.
— Я ничего не вижу, — произносит она, переведя дыхание.
Сноп света отходит в сторону. Она видит перед собой полицейскую фуражку.
Вокруг толпится народ. Звучит сирена кареты скорой помощи.
— Француженка, — говорит Стив. — Она — француженка.
Полицейский смотрит на Анук и произносит, обращаясь к Стиву:
— Почему она плачет?
Она отрицательно качает головой; она делает вид, что ничего не понимает. И отвечает: нет. Нет всему, что она видит вокруг.
— Отвезите ее домой, — говорит полицейский. — Где она живет?
— В отеле…
Нельзя допустить, чтобы Стив назвал отель. Вдруг полицейским вздумается завтра приехать в отель. Роберт. Придется с ним объясняться. Не надо объяснений. Она говорит, старательно выговаривая слова, словно шестиклассница. На ломаном английском языке.
— Я плачу, потому что люблю…
— Проезжайте, — говорит полицейский Стиву. — Проезжайте. Это вовсе не то место, которое можно показывать туристам.
Стив благодарит едва заметным жестом. Затем он поворачивает ключ зажигания. Включается мотор. Полицейский помогает им выехать из толпы. Машина проезжает мимо скопления полицейских машин. Карета скорой помощи уже тронулась с места. Несколько человек посажены в разные полицейские машины.
Как только они отъехали в сторону от освещенной фарами площадки, они вновь погрузились в темноту. Боль в затылке. Анук плачет. Молча.
— Сигарету?
Она дрожит.
Стив зажигает сигарету и вставляет ей в рот.
Он ведет машину, как бездушный робот.
«Больной, чудовище, садист». Каких только пороков она ни приписывает ему, все же ей не удается с помощью уничижительных слов освободиться от нежности к Стиву. Французский рационализм и врожденный здравый смысл подсказывают ей, что нельзя поддаваться охватившим ее чувствам. Зачем она, рожденная в семье с фашистскими, как ей казалось, взглядами, мечтала раньше о том, как побольнее ударить противника спортивной битой? Зачем было мазать краской дорогие картины в кабинете отца? Зачем бунтовать против сложившейся системы? Если ничто не помешало ей замереть от ужаса, когда какой-то одержимый едва не скрутил ей шею?
— Я хочу выйти из этой проклятой машины, — заявляет она. — Что это за город, населенный призраками? Здесь даже кафетерии и то закрыты.
— Из-за ночных грабителей, — говорит Стив. — Я отвезу вас в отель.
— Вы поднимитесь со мной в номер. И там мы поговорим обо всем…
— Нет, — отвечает он. — Я не поднимусь с вами в номер. Уже слишком поздно. В регистратуре вам могут сделать замечание.
— Кому вы звонили из моего номера? — почти кричит она. — Если не Дороти, то кому?
— Моей матери. Я приехал к ней позавчера. Я собирался переночевать дома. Да вот не смог. Не выношу ее наставлений по поводу моего будущего. Мне удалось снять единственный в Вашингтоне свободный номер. В вашей гостинице. Утром я встретил вас… и…
— И что же… — произносит она сдавленным голосом. — Вы решили убить меня?
— Нет, — говорит он. — Нет. И не произносите больше этого слова. Оно действует мне на нервы.
— Я хочу выйти! — кричит Анук. — С меня хватит вашего города-призрака.
— Что вы собираетесь делать? — спрашивает Стив.
Он снижает скорость.
Она отвечает так громко, как будто рядом с ней находится глухой:
— Пройтись. Подышать свежим воздухом. Выбраться поскорее из этой чертовой машины. Почему вы возили меня к ней? Почему?
— Мне захотелось, чтобы вы познакомились. Посмотреть, как вы будете выглядеть вместе. Вы — первая женщина…
— Кто?
— Которая…
— Что?
— Которую я привел в дом… Вы мне понравились с первого взгляда. Я захотел, чтобы вас увидела моя мать.
— Я хочу выйти, — говорит она. — Если вы не остановите машину, я закричу.
Они объезжают какой-то сквер.
— Дюпон-сквер, — говорит Стив. — Ночью пройти через него еще опаснее, чем через джунгли… Какой-нибудь тип в наркотическом бреду в любой момент может напасть на вас и убить.
— Отчего же, — произносит она срывающимся голосом, — отчего полиция не может разогнать к чертям весь этот бордель на Дюпон-сквер? Зачем нужна такая полиция?
— Полиция уважает свободу тех, кто там находится…
Она уже кричит во весь голос:
— А кто уважает свободу тех, кто хочет пройти через этот сквер? Кто? Что это за свобода, которая защищает тех, кто держит всех в страхе?
Широкая улица по другую сторону сквера. Освещенный фасад кинотеатра Дюпон-Синема.
По соседству с кинотеатром — открытая платная стоянка, забитая машинами; разметка, нанесенная белой краской. Стив заезжает на стоянку и ставит свой автомобиль, как пешку на шахматной доске, на пустующий квадрат расчерченного белым асфальта. Автомобильная стоянка одной стороной примыкает к стене довольно мрачного двенадцатиэтажного дома, а с другой — к зданию кинотеатра. Из открытого окна проекционной кабины бьет свет. Посреди площадки достаточно места, чтобы стоящие по своим размеченным клеткам машины могли дать задний ход и выехать из паркинга.
Анук барабанит кулаком по дверце машины.
— Откройте…
Стив наклоняется в ее сторону и опускает блокирующую кнопку. Анук тут же бросается вон из машины. Оказавшись на асфальте, она обнаруживает, что машины стоят почти впритык друг к другу. И надо быть такой тоненькой как она, чтобы проскользнуть мимо, не задев ни одной машины. Анук направляется к центральной части стоянки, где есть свободное пространство; на земле валяются старые газеты; круги от фонарей освещают то тут то там кучи брошенных оберток от жвачки.
— Грязь и мерзость! Отвратительный город! — произносит она, в ярости топая ногой об асфальт.
«О! Говори еще, сияющий ангел! В эту ночь ты так прекрасна, что похожа на спустившееся с небес божество».
— Этого не может быть, — обращается она сквозь слезы к подошедшему к ней Стиву. — Вы слышите?
«О Ромео, Ромео! Почему ты Ромео? Отрекись от своего отца, отрекись от своего имени; если ты не сделаешь этого, я не смогу любить тебя, ибо я не буду больше Капулетти. Услышу ли я его еще раз? Осмелюсь ли заговорить с ним?» На Анук и Стива обрушивается настоящий водопад звуков. Принадлежит ли эта музыка гению великого Чайковского, почти целое столетие черпавшего вдохновение на дне кропильницы, поддерживаемой самим дьяволом? Музыка подхватывает в свои объятия, как поток вышедшей из берегов взбесившейся реки, перемалывающей в своем русле останки затонувших когда-то кораблей, разбившиеся на осколки каменные глыбы, вырванные с корнем деревьев. В потоке мутных, отдающих стальным цветом вод, сокрушающих все на своем пути, то тут, то там мелькают один, а то и множество окровавленных человеческих трупов, похожих на застывшие восковые фигуры. Эту музыку одни презирают за то, что она слишком классическая, в то время как другие обожают ее за чувственность, третьи осуждают ее за страсть и почти плотскую близость; эти неистовые звуки проникают во все клеточки человеческого организма. И подчиняют себе его разум и волю.
«Музыка? Я отвергаю ее, — сказал однажды дедушка. — Есть в музыке нечто такое, что непостижимо моему сознанию. Раз музыка не поддается мне, я отвергаю ее. Порой музыка способна овладеть всем нашим существом, и потому я не желаю ее слушать. Я — рационалист и хочу сохранить свою независимость».
— Анук, — говорит Стив. — Анук, я заметил тебя утром у бассейна во второй раз. Накануне вечером я видел, как ты подъехала к гостинице вместе с мужем. Я был в холле. Я смотрел на вас с завистью. Какая счастливая пара! Безоблачная жизнь. Французы. Я испытываю к ним особую симпатию… «Этот парень, должно быть, очень счастлив со своей женой», — подумал я. Затем бассейн. Блондинка, к которой я подошел, чтобы поболтать по-французски. И ничего больше. Никакой задней мысли. И неожиданный шок. На твоей шее знак, который я ненавижу. Такая нежная, хрупкая шея, убитая этим символом. В ту же секунду я понял, что ты принадлежишь тому миру, от которого я бегу без оглядки…

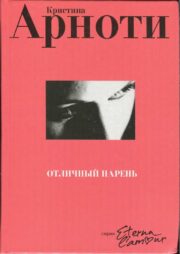
"Отличный парень" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отличный парень". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отличный парень" друзьям в соцсетях.