Я еле сдерживалась, чтобы не заорать, что он воспитывает мою дочь в ненависти ко мне.
— Хочешь, чтобы мою дочь били? — переспросил он.
Я вгляделась в его глаза. Они были заштрихованы клеточкой скрещенных ресниц. Шлюз опущен, пароля не было. Я махнула рукой.
Моя дочь перестала навещать бабушку и дедушку, хотя в ее возрасте внуки и бабушки самое естественное сочетание. Она осталась без дедушки с бабушкой, а с другой стороны родственников у нее не было.
Мой муж воспитывал дочь не только в ненависти к моим родителям, но и ко мне. Может быть, ненамеренно. Так получалось само собой. Как у меня. Только ему удавалось лучше.
Наверное, я сама превратила свою жизнь в корриду, выдумав обязательные фигуры, и втянула в нее мужа. Мы подбривали друг другу рога нашей дочерью. Это был запрещенный прием.
Но он первый ввел мне допинг, поставив меня на «красное», «железяки» — на «черное». «Черное» выиграло, «красное» не хотело уступать первое место.
Мы с родителями никуда не уехали. Я лежала на диване в гостиной. Я не пересчитывала свои камни. Их было всего три. Три невыносимо тяжелых камня. Мне одной их не вытащить. Для этого требовался огонь. Но моя божья искра погасла, а раздуть огонь было некому.
— Она спит.
Я услышала папин голос в коридоре.
— Не плачь. Мама спит, — повторил папа.
Он вошел в гостиную, неся трубку радиотелефона. Я засунула голову под подушку.
Из-под толщи подушки я услышала, как папа сказал:
— Как проснется, она обязательно позвонит. Я обещаю. Если хочешь, я приеду за тобой и привезу тебя к маме, — и после паузы добавил: — Не хочешь, как хочешь. Тебе пять лет. Ты уже взрослая. Сама решай.
Я позвонила мужу на сотку. Так было проще. Я боялась звонить к нему домой. Трубку могла взять дочь.
— Если не хочешь доконать дочку, приезжай. — Он тоже устал.
Я приехала домой, мне навстречу вышла дочь. Я стояла, не поднимая глаз. Чего я боялась?
— Ты не умерла? — спросила она.
Я взглянула на нее. Коротко. И задержалась. Она смотрела на меня перепуганными глазами и прижимала к себе любимую мягкую игрушку. Невиданного лохматого зверя с шерстью всех цветов радуги. У него была глупейшая и добрейшая улыбка. Два огромных глаза в кучку у носа и улыбка. Я купила его давно, она с ним не расставалась, хотя у нее было много игрушек. Она быстро их забывала и ломала в детстве, как я. Она тоже хотела узнать тайну шуршащей погремушки. Я разломала ее тогда молотком. Чтобы моя дочь узнала то, что не узнала я. В погремушке оказались одноцветные пластмассовые горошины. Розовые, по-моему. Дочь забыла о погремушке, тайна которой открылась, а я свою помнила. Может, не следовало ломать ее погремушку? Было бы интереснее.
— Ты не умерла? — повторила она и заплакала.
— Нет.
Я обняла ее и прижала к себе. Я чувствовала, как сотрясается маленькое тельце моей маленькой дочери. А больше не чувствовала ничего. Моя дочь не была виновата. Я виновата в том, что случилось. Но поделать ничего нельзя. Я вытекла каменной мантией в дыру сказочной земли вслед за древним океаном. И высохла.
У ребенка должна быть мать. Я осталась в семье ради дочери. Переехала в другую комнату, а муж остался в спальне с дочкой. Это было правильнее. С ним я быть не могла, а они были ближе друг другу, чем я.
Я открыла глаза, рядом с диваном стояла маленькая фигурка в белом костюме в паре с лохматым чудовищем. Ночью, при свете луны. Она стояла не шевелясь, а я ощущала ее взгляд всей своей кожей.
— Ты правда не умерла?
Голос белой фигурки дрожал и ломался. От слез и соплей. Я притянула ее к себе. Тесно-тесно. И вдохнула ее запах. Детский, нежный, цветочный.
— Правда.
— Почему ты все время лежишь?
— Мне грустно.
— Хочешь поиграть?
Она протянула мне радужного лохматого зверя. Я вдруг заплакала, и моя дочь вслед за мной. Басом. Я плакала и смеялась. Я затащила ее в свою постель и перецеловала ее глазки, носик, все пальчики, толстую попу и круглый живот. Мой ребенок уснул со мной в слезах и соплях. Я не спала до утра.
Я люблю свою дочь безраздельно. Но я вдруг почувствовала, что внутри меня кем-то давным-давно натянуты струны. Сначала они тренькают, потом рвутся одна за другой. Может, у меня осталась последняя струна — любовь к моей дочери. Если порвется она, мне незачем будет жить. Если бы я промедлила немного, она бы порвалась. Я пугала свою дочь самой собой. Она пять дней жила с мертвой матерью. Это больше, чем я пробыла в реанимации. Такого детская психика выдержать не может. Моя дочь страдала дольше, чем я. Я снова постаралась. Терзала родного ребенка собственными руками. Таким, как я, надо запрещать рожать детей. По статье. Смертная казнь без помилования.
После моих игр в собственную смерть я превратилась в собственный призрак. В то, чего нет. Для дочери. Я оборачивалась и видела, как она стоит в дверях комнаты, не решаясь подойти. Вижу так же ясно, как и тогда. Испуганные недетские глаза и радужный зверь как щит. Я протягивала к ней руки, она убегала. Я сжимала ее тельце и целовала ее перепуганные глаза, дрожащие губы, щеки, курносый малышачий нос. А между нами щитом был радужный зверь.
— Не бойся. Я с тобой. Я с тобой. Я с тобой. Не бойся, — с каждым поцелуем шептала я. Горячо, сбивчиво, путано. Господи! Как я ненавидела себя!
Она успокаивалась и засыпала с головой на моих коленях. Я молила прощение у каждой черточки ее лица, у каждой складочки ее тела, у каждого пальчика. Целовала легонько с головы до ног, чтобы не разбудить. И просила прощения. Тихо-тихо. И так было каждый день. Я не находила себе места. Каждую ночь я ждала, вдруг заплачет мой ребенок. Все валилось из рук. Жизнь на автомате — и только одна мысль, что будет дальше с моим ребенком? До чего я его довела?
Время шло, моя дочь уже привыкла к тому, что я жива и здорова. Но я себя не прощала, и дочка меня не простила. Ей было легче с отцом. Просто легче. Во всех отношениях. Со мной она уже не смеялась, она смеялась с ним. С оглядкой. Я подходила к ним, она замыкалась. И я тогда самоустранила себя. На время. Чтобы Маришка привыкла к тому, что я рядом. Всегда рядом с ней. Когда она захочет. Стоит только позвать. Главное, чтобы ей не было страшно.
— Ты понимаешь, зачем ты здесь? — спросил меня муж.
— Лучше тебя, — вяло ответила я. Больше мне нечего было сказать. Он бы не понял.
— Твой эгоцентризм беспримерен, — с ненавистью сказал он. — Ты обошла своего отца на голову.
Он действительно ничего не понял. Я не могла травмировать дочь самой собой. Мне казалось, так будет лучше.
С тех пор ночью мне часто снился черный лабиринт из бесконечных комнат, коридоров, переходов и лестниц. Я кружила по нему до изнеможения, пока не оказывалась на жертвенном круге ритуального зала. Вокруг меня описывала круги голубая бабочка газового фонаря. Я ждала ее появления, цепенея от страха и ледяного холода. Она начинала нехотя, медленно, далеко. То приближаясь, то отдаляясь назад. Все быстрее и быстрее, пока ее рваный танец не сливался в тесный голубой обод, туго закрученный вокруг моего тела. Снизу вверх. Виток за витком. Последний бесшумный оборот вокруг моего затылка, и бабочка влетала мне в глаза, вгрызаясь в лицо зубами человеческого черепа. Финал.
Сначала это было моим кошмаром, а потом я стала пить снотворное. И мне перестали сниться сны. Вообще.
Я поступила на вечерний. Мне повезло, всего три года, потому что у меня уже имелось высшее образование. На третий год — защита диплома. Так было правильнее и быстрее. Нам нужны деньги. Их хватало только на самое необходимое. То есть ни на что. Я не знала, сколько получает мой муж. Но я знала, что он тратит последние деньги на покупку своей металлической мании, на поездки за ней за тридевять нездешних земель. Вечерами он говел на тайных вечерях с такими же сумасшедшими, как он. Не думая, не загадывая, не заботясь о будущем. А мне нужен был стабильный, высокий доход. Нужен!
Его могла дать только работа.
Я была готова к разговору. Я права, потому легко смогу объяснить, почему я так делаю. Это несложно. Мне нужен был крепкий тыл, но создать его для меня мой муж не сподобился. Не хотел! Не желал! Не стремился! Я приготовилась к схватке. Настроилась. Наточила когти и зубы. Я ткну его носом в мертвый груз бессмысленных, никчемных железяк. Завалю ими по самую маковку! Не желает понять, тогда я устрою чейндж. Моя учеба — на его неизлечимый досуг. Пусть получит его без условий. Пусть! Неважно, кто забирает ребенка из сада. Важно, кто обеспечит его будущее. Это сделаю я!
— Марише нужна няня, — сказала я. — Или ты сам будешь забирать ее из сада.
— Почему?
— Я поступила учиться. На вечерний. Я не всегда буду дома.
Я приготовилась к схватке, а она оказалась не нужна. Он опустил голову. И все.
Я молчала, и он молчал.
— Что молчишь? — спросила я, мой голос дрожал от еле сдерживаемой злобы. — Нечего сказать?
— Как хочешь, — ответил он и вышел.
— Я отвечаю за дочь. И для меня это не пустой звук! — крикнула я ему в спину.
Он не дослушал меня, закрывшись в своей комнате. Отгородившись старой, крепкой, дубовой дверью. Я взялась за ее ручку, помедлила и ушла. Поняла, все бесполезно. Он не уступит.
Мне нужно было объясниться и с дочкой. Это труднее. Намного. Сможет она меня понять? Она ведь такая маленькая.
— Мариша, я хочу купить нам дом. Счастливый дом. Как мы мечтали. Помнишь? Ты помнишь счастливый круглый дом?
— Желтый, как одуванчик? — вдруг улыбнулась она.
У меня отлегло от сердца. Свалилась страшная, невыносимая тяжесть. Я не буду с ней вечерами, но она будет знать, что я делаю это не зря. Ради нашей мечты. Она поймет. Она уже так выросла.

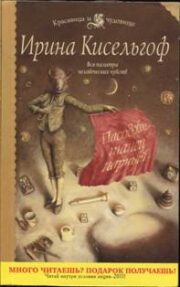
"Пасодобль — танец парный" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пасодобль — танец парный". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пасодобль — танец парный" друзьям в соцсетях.