Молчит, конечно. Не отвечает. Ни эмоции на лице, ни улыбки, ни черта. И усталость берет адская. Какая-то невыносимая. Как плитой давит.
— Дёмаааа, смотлииии. Я на коньках. Ла-ла-ла. Ой!
И в сугроб заехала. Дашка ее вытащила, усадила на санки. Поехали в сторону большого городского катка. Вокруг жизнь кипит. Праздники на носу.
— Я когда мелкий был мама меня на этот каток возила. Все хотела, чтоб я хоккеем занимался. А отец против был. Зачем военному хоккей. Он все мечтал, что и я военным буду и Бодька. Я тоже о хоккее бредил. И мы в ней втихоря с коньками смывались сюда. Потом она коньки прятала в гараже за рыбацкими снастями деда.
На катке народа собралось куча. Не протолкнуться. Девчонки с визгами пролетали мимо, махали им руками. Счастливые, улыбаются. А он хочет и ее улыбку увидеть, хотя бы раз. Один единственный.
— Дёёём, а там коньки напрокат дают. Давай с нами покатаешься.
Посмотрел на Мишку, закутанную в полушубок, накрытую одеялом и обмотанную шарфом. Одни глаза огромные видно. Потом на девочек. Потер красный от мороза нос.
— Да? С вами?
— С нами! Наперегонки!
Дашка весело захлопала в ладоши.
— Да я вас обеих обгоню.
— Не обгонишь!
— Обгонюююю.
Повернулся к Мишке.
— Ты посиди здесь, а я там немного с мелкими покатаюсь. Не обидишься?
Не смотрит на него. Смотрит куда-то в снег. Ладно. С кем он разговаривает? Ледышка и та чувствительней. Она хотя бы от тепла тает.
Натянул коньки, выскочил на лед. Мелкие хохочут, впереди него снуют. На раз-два-три побежали вперед, он клюнул носом с непривычки, они обе его на ноги поднимали, заливаясь от смеха.
— Проиграл конфету.
— Мы не спорили на конфеты.
— Все равно проиграл.
— Ладно! Хитрые морды!
Обернулся снова на Мишку. Сидит в кресле. Не двигается. В голове промелькнула мысль, что безумно хотел бы ее вот так рядом с собой. Носится по катку. Дурачиться. Чтоб смеялась с него, как когда-то и он видел морщинки на ее переносице и несколько веснушек на щеках.
А задолбало его все это. Осточертело ему. Смотреть на нее вот так и как с хрусталем нянькаться. Сидит там. Как чужая. Как изваяние. Жизнь у нее закончилась. Ни хренааа. Черта с два она закончилась. Проскользил по льду к ней. Схватился за коляску и вытянул на лед.
— Ты че сдурел? — покрутила у виска какая-то дама и он показал ей средний палец. На хер пошла.
Склонился над Мишкиным лицом.
— Ну че? Покатаемся? Харе сидеть с кислой рожей! Тошнит от тебя! Эй, Кузнечик, Петарда, валите сюда. Сейчас наперегонки со мной бегать будем с Мишкой.
Михайлина судорожно челюсти сжала, глаза расширились. В глазах появился страх. Вот и хорошо. Хоть что-то там появилось. Хоть какой-то проблеск. Пусть даже ужас. Но уже эмоция.
— Не бойся. Хуже точно не будет.
Заверил ее и схватившись за ручки разогнался и поехал. Все быстрее, быстрее, набирая скорость, по кругу с дикими воплями.
— Даааа! Уррррааа! Поехалиии!
— Осторожно! — крикнула Дашка.
Но он ее не слышал. Мчался изо всех сил, впившись в ручки. Пока не споткнулся, и не завалился вместе с креслом на бок в сугробы. Тут же испугался, сердце зашлось от ужаса и перед глазами потемнело. Идиот конченный! Ее же нельзя травмировать! Придурок! Увидел ее маленькую в снегу, лицом вниз!
— Мишка, прости…черт, простиии, — кричит, ползет к ней, ноги разъезжаются в долбаных тупых коньках. Наклонился, перевернул и…замер. Она смотрит на него и улыбается. Впервые. По-настоящему.
Глава 18
— Каждая хворь в голове живет и вот здесь, — бабка Устинья показала морщинистым пальцем на грудь Демьяна, — как змея пригретая. И человек сам ее кормит болью, страданиями, чувством вины, ненавистью и нелюбовью к себе. Змея издохнет лишь тогда, когда ее перестанут кормить. Понимаешь, о чем я?
— Понимаю.
Бросил взгляд на Михайлину, сидящую в кресле во дворе. Так же неподвижно, так же безэмоционально.
— Все лекарства испробованы. Впереди могут быть операции…всего лишь могут. Но должны произойти какие-то перемены. Но они не происходят. Нет чувствительности в руках и ногах. Она не вернулась. Я делаю массажи, я заставляю ее двигаться, но…ничего не помогает.
И опять тоска эта безысходная наваливается. Он е гонит, он ей кости голыми руками ломает так что кажется исколот весь обрубками этими, а она воскресает и голову поднимает и под кожу к нему забирается тоска эта гребаная. Когда уже ни веры, ни надежды нет и хочется сдохнуть.
— Думаешь не помогает?
— Да…
— Посиди-ка здесь. Я скоро вернусь.
Говорит ей бабка о чем-то, а она на нее даже не смотрит. Как всегда, взгляд рассеялся в никуда и видит свое бессмысленное «нигде». Почему, блядь? Неужели так его ненавидит? Неужели из-за него не хочет вставать на ноги?
Устинья еще какое-то время во дворе постояла, затем вернулась обратно в дом, сбила снег с валенок, скинула тулуп и платок, у двери повесила.
— Бессильна я здесь. Ничем не помогу. В город возвращайтесь.
— Что значит бессильна?
Она как будто кувалдой всю надежду разбила. Осколки больно впились ему в грудину и дышать стало тяжело.
— То и значит. Не хочет она. А когда человек не хочет все смысла не имеет. Оставайтесь ночевать я вам в сарае постелю, а на утро в город поезжайте, пейте дальше ваши умные лекарства. Авось помогут остальные органы загубить.
Зло взяло. Поднялось внутри черной волной и затопило. Умная какая. А говорят людям помогает. Шарлатанка. Ни черта она не умеет. Как и думал он. Просто так приперлись в даль такую. Тащил ее в машине и сам плутал по дорогам-лабиринтам. Два раза тачку откапывал из сугробов. В третий в деревню на тросе ехал за внедорожником.
— А травки-муравки ваши там всякие. Снадобья, зелья. Какую-то хрень, которую вы вашим пациентам раздаете. Я все куплю, слышите? Все ваши веники!
От отчаяния руки в кулаки сжались и, кажется, он сейчас заорет так что голосовые связки полопаются.
— Ты поутихни. Не надо так возгораться. Ишь горячий какой. Купит он. Привыкли с города своего приезжать и покупать всякое. Запомни не всех и не все купить можно. Не все лекарствами и деньгами лечится.
К нему несколько шагов сделала и спросила:
— Ты вот зачем с ней возишься? Зачем привез ее сюда за столько километров? А? Только честно отвечай. Я здесь судить никого не думаю. Не судья. Чай сама не без грехов. Говори! Зачем?
— Люблю я ее.
Выкрикнул и как будто порвалось что-то внутри, как будто нужно было ему вот это вот выкрикнуть.
— Вот, — ткнула пальцем ему в грудь, — вот и люби. Только не как сосед, не как санитар и нянька. Как мужик люби. Ясно? Дай ей себя не подопытной, беспомощной инвалидкой чувствовать, а женщиной. Желанной, красивой и любимой. Чувствует она все…и ногами и руками. Понял? А любовь и не таких больных на ноги ставила.
И в глаза смотрит ему, а в зеленых омутах вся бездна вселенной. Там нет возраста. Там нет времени. Там есть только глубина. Ее не постичь и не понять. Даже жутковато становится.
— А ты…от злости излечись. Не все такое, каким нам кажется, понял? Не все виноватые на самом деле виноваты, не все равнодушные равнодушны. В панцире все живем. Кто-то нарочно, кто-то иначе не умеет или по долгу службы не может.
Не дошло, о чем она. Кто равнодушный и виноватый? Да и какая нахрен разница, если изменений никаких, если за столько месяцев нет ни малейших улучшений. Он уже с ума сходит. Он уже сам скоро больным на голову станет.
Демон ни о чем думать не может кроме как о том, что она чувствует. О том, чтобы вернулась к ней эта проклятая чувствительность. Рука нащупала в кармане визитку Светилы.
«О прогрессах рано говорить, но если к ней вернется чувствительность, особенно в нижних конечностях, то шансы подпрыгнут почти в два раза. Тогда можно будет изменить курсы лечения, назначить интенсивную реабилитацию, говорить о каких-то перспективах. Если это произойдет…в чем я сльно сомневаюсь, позвоните мне и начнем думать, что дальше делать».
Захотелось порвать ее и вышвырнуть обрывки в ведро.
Устинья постелила им в сарае, который скорее напоминал кладовую, разделенную на две части. С одной стороны ее банки и склянки с другой раскладной диван, накрытый стеганным одеялом и вязанным покрывалом.
— Будет сильно холодно дров подкинь в буржуйку. На ней же можешь чай нагреть. На кресле тулуп и куртка мужа моего покойного можете и ими укрываться. И на вот…вотрешь ей в кожу. Согревает, ускоряет кровообращение. Полезно ей. В том тазу воду вскипяти, в ведрах студёная стоит, еще вчера натягала, как знала, что гости заявятся. Обмой ее, а потом разотрешь и одеяло укутаешь, чтоб аж жарко ей было.
Поставила баночку на табуретку.
— Завтра уехать не сможете. На окружной авария будет и дороги перекроют до обеда, а после обеда метель начнется. Так что до послезавтра останетесь. Дров мне за это нарубишь и в соседнее село съездишь за рыбьим жиром к деду одному. И спирту привезешь. Мне настойку делать надо, а пешком по этим сугробам далеко не ушлепаешь.
— Будет? — переспросил, не веря своим ушам. — Или была?
— Да, будет.
Невозмутимо ответила и вышла из сарая, дверь прикрыла за собой и затянула песню бодрым голосом.
— Каким ты был, таким остался. Каким ты был, таким остался, Орел степной, казак лихой…Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Затем опять в своих утратах меня ты хочешь обвинить? В одном, в одном я только виновата, что нету сил тебя забыть*1
Печка буржуйка. Не ну круто че. Вот прям сразу взял и разжег в ней огонь. И гугла нет, потому что интернет ни хрен не работает, как и все сотовые ни черта не ловят. Зато у бабы Усти есть телевизор, и он что-то там вещает слышно аж в сарай.

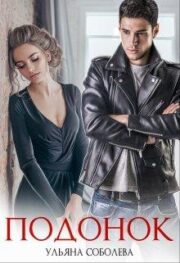
"Подонок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Подонок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Подонок" друзьям в соцсетях.