Вир водил по драконше руками, будто довольно было его ласк, чтобы поставить навечно его клеймо на каждом клочке ее тела.
Когда же она, наконец, прервала поцелуй, снова зажегся сигнальный огонь, только, чтобы медленно погаснуть по мере того, как ее рот обошел его скулы и спустился к шее. В ответ Вир ставил метки ртом вдоль ее гладкой щеки и ниже на шелковистой выгнутой шее. Он упивался ею, ароматом ее кожи, в котором смешались запах дыма, лилий и чего-то еще.
– Вот он, драконий аромат, – бормотал он. – Моя прекрасная драконша.
Она переместилась, и он почувствовал, как ее руки рванули пуговицы на его жилете.
Без всякого стыда, даже и близко его не было.
Драконша выпростала рубашку Вира и приложила руку к его сердцу, там, где правду от нее не спрячешь, не утаишь его бешеное биение.
Скрыть эту правду было за пределами его желания, даже если бы он знал, как. Он с трудом вообще был способен на что-то разумное.
Безотчетно он расстегнул пуговки, очертившие на спине драконши ткань, согретую ее жаром. Ткань зашелестела, когда он отвел ее прочь. Под одеждой Вир обнаружил жаркую шелковистую кожу и стал дразнить себя, чуть поглаживая выпуклости женской груди, большим пальцем поигрывая ее напряженным соском и слушая попутно, как перехватывает у драконши дыхание, и позволяя ему закончится слабым вскриком, который она была не в силах сдержать.
Она прижималась теснее, пока ее таз не стал давить на жезл, весь жаждущий и чересчур взбухший, чтобы суметь приноровиться.
Тревожный сигнальный маячок разгорелся было сильнее, но Вир погрузил лицо в углубление ее шеи и втянул ее аромат в легкие. Сигнальный огонь потух, погашенный ощущениями. Под щекой Вира кожа ее была гладкой, теплым шелком струилась она под его губами.
Он осознавал обжигающее прикосновение ее рук, вытягивающих его рубашку, а после опаляющих его кожу.
Сам он слишком был занят поисками на ее брюках пояса, пуговиц, отворота ширинки. Он нашел, что требовалось, и в то же самое мгновение от локтя до плеча его пронзила острая боль.
На секунду боль привела его в сознание. Он тупо заморгал, как нагрузившийся до ручки пьяница. А в следующий мгновение сосредоточился и увидел, что просто стукнулся локтем о дверную ручку, которая прилагалась… к двери.
Черт возьми, дверь.
Он чуть не поимел драконшу прямо перед растреклятой входной дверью.
– Черт возьми.
Он поднял голову, втянул воздух в легкие, потом еще раз и еще.
Потом ощутил, как руки ее скользнули прочь, услышал ее прерывистое дыхание.
– Гренвилл, – начал Вир, еле ворочая распухшим языком.
Он увидел, как метнулись к одежде ее руки и неловко стали застегивать то, что он успел расстегнуть.
– Не говорите ни слова, – приказала она, голос ее был таким же хриплым, как у него. – Я сама начала. Я беру всю вину на себя, ответственность, все что хотите.
– Гренвилл, вы…
– Я выжила из ума, – продолжила она. – Это как пить дать. Полагаю, мне следует быть благодарной. Только я пока не могу. Я понимаю теперь, что вы имели в виду прошлым вечером насчет плохого настроения. – Она зажмурила глаза и вновь открыла. – Вы не упоминали, что кое-кому напрасно причинили боль. Впрочем, именно того этот кто-то заслужил тогда, верно?
– Проклятие, Гренвилл, только не говорите, что я задел ваши чувства.
И голос его прозвучал слишком резко и громко. Вир попытался сказать спокойным тоном:
– Да ради Бога, мы же не можем устраивать представление перед входной дверью.
Драконша оттолкнулась от пресловутой двери, подхватила узел и стала подниматься по лестнице.
Эйнсвуд потащился за ней.
– Вы же на самом деле не хотите меня, – продолжил он. – Это все минутная страсть. Возбуждение. Пробужденное опасностью. Вам и за милю нельзя ко мне подходить, Гренвилл. Я плохо влияю. Спросите любого.
– Я, знаете ли, тоже не образчик добродетели, – парировала она. – Иначе бы меня ни за что не привлек такой никчемный дегенерат, как вы.
Она подчеркнула сие утверждение, ткнув локтем ему под ребра.
– Убирайтесь прочь, – заявила она. – И там и оставайтесь.
Тут Вир остановился и позволил ей удалиться. Он наблюдал, как она решительной походкой чеканит последние шаги до кабинета, выпрямив спину и покачивая заносчивым задом.
Потом открыла кабинет и, не оглянувшись на Вира, вошла и захлопнула дверь.
Он стоял, не двигаясь с места, испытывая неуверенность, в голове крутилась мешанина из мыслей, как обычно в присутствии драконши. На сей раз омут мыслей замутили эти «кто-нибудь еще» и все то вранье, что он твердил себе, и невесть откуда приблудившиеся частицы правды, умудрившиеся выжить в адской бездне, представлявшей собой его мозги.
В этой бурлящей преисподней он разглядел одну ослепительную истину, самую унизительную. Что «кого-нибудь еще» он не потерпит.
Это была самая что ни на есть неприглядная истина касательно нее, но тут уж ничего нельзя поделать. На свою беду драконша перешла ему дорогу, а еще большее несчастье для нее, что она уязвила его самолюбие, и теперь…
Ему не стоило даже думать подобное, потому что из всех неправедных дел, которые он когда-либо совершал или замысливал сделать, то, что он обдумывал в этот момент, превзошло все ожидания.
Все же он был последним негодником Мэллори, отвратительным, самоуверенным, бессовестным, et cetera, et cetera.
А что считалось самым преступным в жизни, посвященной грехам и моральному произволу?
Эйнсвуд направился к двери в кабинет, толкнул ее и вошел.
Он обнаружил драконшу, занятую вываленным на стол содержимым женской сорочки.
– Я же сказала вам, убирайтесь, – возмутилась она. – Если в вас есть хоть крупица разума…
– Нет. – Он закрыл дверь. – Выходите за меня, Гренвилл.
Глава 10
Эйнсвуд маячил перед дверью, выглядя при этом так, словно потерпел кораблекрушение. Сюртук, равно как и жилет, помятые и грязные, были расстегнуты, и полы болтались. Шейный платок он потерял, наверно не без помощи Лидии, а рубашка распахнулась, являя миру мощную линию шеи и плеч, и привлекая внимание к мускулистой груди, соблазнительно видневшейся в V-образном вырезе. Облегающие брюки все были в пятнах, а башмаки имели изношенный вид.
– Выходите за меня, – повторил он, снова притягивая ее взгляд к своему лицу. Глаза его потемнели, и лицо приобрело упрямое, доселе невиданное ею выражение. Это значило, что разум свой он запечатал наглухо, и она с таким же успехом могла бы говорить с дверью, которую герцог подпирал.
Лидия совершенно не могла взять в толк, что за блажь стукнула ему в голову – жениться, но могла только догадываться: запоздалый приступ совести, ложное представление о долге, или просто мужское желание господствовать. Больше похоже, что это было случайным образом сложившаяся смесь из всех трех причин с долей милосердия и, возможно, добавились некоторые другие вредоносные ингридиенты.
Как бы то ни было, невзирая на то, что он там имел в виду под сим предложением, она знала, что женитьба означает мужское господство – со всей безусловной поддержкой от всех форм общественной власти: закона, церкви и Короны. Проще говоря, над любой, за исключением господствующего рода, женщиной, чей восторг по поводу сложившейся ситуации менялся от сильного (среди немногих заблудших) до несуществующего (среди просвещенных, свободных от предрассудков). Среди последних в пору ранней юности заняла свое место и Лидия, и с тех пор не сдвинулась с этой позиции.
– Благодарю, но замужество не для меня – заявила она Эйнсвуду со всей возможной холодностью и самым безоговорочным тоном
Он отошел от двери, чтобы встать напротив нее, где их разделял только стол.
– Нет, не говорите мне, – произнес он. – У вас наверняка припасено некое высокопарное правило против брака.
– Собственно говоря, так и есть.
– Полагаю, вы никак не возьмете в толк, с какой стати женщина должна вести себя отлично от того, что делает мужчина. Не понимаете, почему бы вам просто не переспать со мной и бросить меня. В конце концов, так поступают мужчины, так почему не можете вы?
– Женщины тоже такое проделывают, – напомнила она.
– Не женщины, шлюхи. – Он оперся о край стола, повернувшись к ней боком. – Сейчас вы укажете мне, что их незаслуженно называют шлюхами. Дескать, почему женщин чернят за те деяния, в которых остается безнаказанным мужчина?
В общем, она именно так и думала и собиралась высказаться в таком духе. Лидия кинула на Эйнсвуда настороженный взгляд. Он отвернулся. Выражение его лица.
она не могла прочесть.
В ней росло беспокойство. Она могла бы побиться об заклад, что он не имеет ни малейшего понятия, о чем она думает или во что верит.
Ему и не полагалось иметь представление обо всем, что приходит ей в голову. Он должен был рассматривать всех женщин, как объекты различной степени привлекательности, которые лишь на одно годятся, тем самым полностью оправдывая свое существование служением лишь одной цели.
– Мне хотелось бы знать, почему я единственная женщина, которая обязана выйти за вас замуж, – произнесла Лидия, – просто затем, чтобы вы получили то, за что платите другим особам. Тысячам других женщин.
– Оставьте этот тон. Не делайте вид, будто вас выбрали, чтобы покарать жестоко и бесчеловечно, без сомнения, – возмутился Эйнсвуд. Он оставил в покое стол и отошел к камину. – Вы думаете, я порченный товар. Или, что более похоже, даже хуже: не я конкретно, а мужчины вообще. – Он взялся за угольное ведро и стал подбрасывать уголь в умирающий огонь, пока говорил. – Вы так ослеплены презрением к мужчинам в целом, что не видите никаких преимуществ брака со мной в частности.

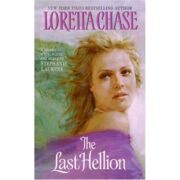
"Последний негодник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Последний негодник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Последний негодник" друзьям в соцсетях.