– Я часто думаю: тогда, много лет назад, какой ты была там, на улице? Озорная? Веселая, свободная? Цыганка?
– Я понимаю, о чем ты… Италия, Испания, Кармен, цветок за ухом или фиалки в корзине, монисто… Нет! Москва не годится. Слишком низкие потолки, толстые стены, тяжелые башмаки в грязи. Слишком много снега…
– Я опять говорю не о том?
– Нет, твоя ошибка в том, что ты вообще со мной говоришь. Я же дословесное существо.
– Я знаю…
Он замолчал и, чтобы не заговорить снова, повел взглядом по облупившимся бледно-голубым дощатым стенам старого театра. Сбоку от сцены еще можно было рассмотреть остатки старой росписи: нимфу над облаком, в развевающихся одеждах и с трубой из витой раковины. Когда-то у нимфы были роскошные черные цыганские волосы, но они выцвели прежде всего.
Александр вернулся с уездного заседания земельного комитета – чесучовый костюм, рубашка из голландского полотна, озабоченная складка между бровями.
Столовая. Накрахмаленная скатерть, серебро, холодная водка в хрустальном графине. На столе – огромный букет пионов. Державный, тяжелый запах.
– Уже звонили к обеду второй раз. Сейчас все подойдут.
– Господи, как я отвык от всего этого.
– От чего, Макс? Тебе не нравятся цветы?
– Когда я смотрю на них, я думаю о реставрации монархии. Но не в этом дело.
– Как же живешь ты сам? Я имею в виду квартира, обустройство… Может быть, семья?
– Мой быт явно не стоит того, чтобы его описывать. Разве что в пьесе – для правильной расстановки декораций.
– Макс, ты уже видел Юлию? Как она тебе показалась?
– Мы почти не разговаривали. Она прошла мимо, как ледяной сквозняк. Как призма из гимназического кабинета физики. Разделила единое на два, три, семь цветов. Не собрать. Смятение…
Александр помолчал, сплетая и расплетая пальцы.
– Для меня важно, что ты это сказал. Я всегда доверял твоему чутью… Но где же Люба?
Часы в виде готической башенки, стоящие в углу, захрипели и, собравшись с духом, довольно мелодично взялись отбивать время. И тут же, в такт – шаги, стремительные, медлительные, невесомые, размеренный шаг, торопливый топот… Многочисленные обитатели Синих Ключей собирались к обеду.
– Грунька, смотри на меня, – Люша дернула подругу за руку.
Глухая женщина отвлеклась от складывания в большую корзину разбросанных детьми игрушек, выпрямилась, отклячив широкий зад и уперев руку в бок.
– Чего тебе?
– Лиховцев привез свой журнал. Там какой-то Зяма Цибельзон был на крестьянском съезде, потом статью написал: «Трибуны и кулуары» И вот: «Степан Егоров, делегат с Юго-Западного фронта, считает, что вся земля должна быть немедленно передана в руки земельных комитетов». Может, это наш Степка?
– Навряд, – качнула головой Груня. – Степанов Егоровых в России немеряно, да и не говорун он, чтоб с этим, из журнала лясы точить. Захочет – сам объявится… Да что ж у тебя-то? Я ж видала – были письма. Нашла?
– Нашла часть, где он служил. Мне оттуда писарь ответил: однажды растворился Знахарь, яко тать в нощи. Появился в полку неведомо откуда и пропал неведомо куда…
– А барин Лиховцев? Он же в его журнал статьи писал?
– Что ж ему – корреспонденции прекратились и все дела.
– Плохо. Получается, опять мы с тобой обе – на бобах?
Крупная, слегка корявая глухая крестьянка с низким лбом и маленькими, утопленными в румяных щеках глазами притянула к себе серьезную и грациозную молодую даму, которая по росту едва доставала ей до плеча. Женщины обнялись и застыли диковинной скульптурной группой.
Лиховцев, Люша и профессор Муранов наблюдали за тем, как Герман, неуклюже ковыляя и склонив к плечу огромную голову, играет с кошкой, волоча по полу бумажный бант на нитке. Крупная раскормленная кошка лениво и отстраненно шествовала за бантом, как будто считая ниже своего достоинства охотиться на столь неповоротливый предмет.
Выражение на лице Люши чем-то напоминало кошачье. Лиховцев, явно страдая, держал ее за руку. Муранов смотрел на мальчика прищурившись, как на странный исторический артефакт.
– Люба, ты очень расстроишься, если я прибью-таки твоего Кашпарека? – энергично спросил Александр, входя в комнату.
– Весьма. А что он еще сделал?
– Юлия жаловалась мне, что он с ней как будто заигрывает.
– Ей это не понравилось? Странно.
– Неужели этот примитивный идиот не понимает…?
– Алекс, я много раз говорила тебе: Кашпарек по-своему очень, ты слышишь? – очень умен. У того, что он делает, всегда есть причина.
– Умен? Какая ерунда! Сегодня с утра Агафон затеял дурацкую игру – кто громче пукнет. Кашпарек принимал в ней деятельное участие вместе с остальными детьми. Сколько ему лет?
– Да ну тебя! – добродушно ухмыльнулась Люша. – У нас на Хитровке в пукалки все воры и нищие играли, им и по пятьдесят лет бывало. А мне Марыськина тетка-покойница специально горох варила…
– Люба! Очнись! Мы не на Хитровке! – заорал Алекс. – Когда уже ты вернешься оттуда?!
Люша взглянула с удивлением.
– Вся Россия скоро превратится в Хитровку, – медленно сказал Макс. – А люди, побывавшие на войне, никогда оттуда не возвращаются. Теперь я знаю это доподлинно.
– Подумать только, – пробормотал Алекс себе под нос. – А ведь когда-то это действовало на меня почти гипнотически. Как различить визионерство и юродство?
– Никакого отличия, дорогой племянник. В данном случае абсолютно никакого, – заметил профессор Муранов. – Любая экспертиза происходящих событий в сущности бессмысленна. Поскольку действительность практически всегда следует за вероятностью, то, глядя из будущего, мы всегда обнаружим в прошедшем такого эксперта, который достаточно полно предсказал реальное развитие событий. Однако вычленить его из многочисленных и противоречивых прогнозов настоящего не представляется возможным. Желающие экспертного мнения могут тыкать наугад или обратиться к любому аналогу дельфийского оракула – вероятностный результат будет одним и тем же.
– Агафон! – позвала Люша, выходя из комнаты. – Скажи мне: кто в пукалки выиграл-то? Владимир играл?
Глава 11,
В которой Валентин Рождественский приезжает с фронта в Москву, но в результате все равно уходит сражаться.
– Разбушевавшееся быдло! – офицер с лицом красивым, но искаженным желчной гримасой, ударил стеком по голенищу сапога.
Бурые листья – еще легкие, не успевшие пропитаться дождевой водой, – взлетели от движения воздуха. Один пристал к отвернутому брезентовому пологу палатки – и оказался бабочкой-крапивницей, разбуженной неверным осенним теплом.
– Солдаты – не быдло, – возразил Валентин Рождественский. – Каждый из них в отдельности такой же человек, как вы или я. Но армия в целом – это механизм. И у каждой детали в нем есть свое место. А после приказа номер один данный механизм полноценно работать не может. Отсюда все.
– Корнилов был последней надеждой русского офицерства.
– Надеждой русского офицерства является само офицерство, я так считаю. Если есть сплоченная сила, всегда найдется, кому ее возглавить. Всероссийский Союз Офицеров…
– Может быть, вы и правы, господин полковник. Но мне кажется, что уже поздно. Солдаты моего полка распродают немцам все свои вещи: пулемет идет за пять рублей, шестидюймовое орудие – за бутылку водки. Завершив коммерцию, они просто уходят домой. Я видел данные: только за два месяца после революции из частей нашего фронта самовольно выбыло 25 тысяч человек.
– Ужасно обидно, что именно теперь, когда победа над германским хищником фактически уже была у нас в кармане… Эта революция… На мой взгляд она похожа на мертвого лебедя: такая же большая, значительная, жуткая и бесполезная.
– Весьма точно сказано, господин полковник.
Брезентовый полог качнулся – потревоженная бабочка вспорхнула и не очень быстро, неверными зигзагами полетела над палатками к лесу. Оба офицера молча следили за ней глазами. Почему-то им казалось, что бабочка вот-вот упадет. Но бабочка не упала, а просто растворилась в сером пасмурном небе.
Ночью, сидя боком на походной койке и подкрутив фитиль керосиновой лампы, чтобы не чадила, Валентин Рождественский писал отцу.
Полковник Рождественский, из расположения Северного фронта – профессору Рождественскому, Москва
Дорогой отец!
Хочется весьма надеяться, что хотя бы у вас все благополучно.
Ты можешь мною гордиться, я получил, наконец, Георгиевское оружие за давний уже бой в районе Слободка-Злота, и еще пришел приказ о награждении меня Орденом Святого Георгия 4‑й степени за захват и удержание австрийских позиций в районе Черновиц. Говорят, Временное правительство уже изобрело какие-то свои награды, но, видит Господь, я их нимало не взыскую.
Мы здесь на фронте держимся пока исключительно на честном слове, данном непонятно кому. Что такое это Врем. Пр-во? На сколько оно времени и что будет после, когда его время истечет – кто бы мне объяснил!
Главное – это растерянность в умах. Мы все присягали Государю и обещали сражаться за Отечество. Когда наш полковой поп по требованию солдатского комитета провозглашает здравницу Временному правительству и анафему контрреволюции, у него дрожат руки.
Семь восьмых офицерского корпуса – это офицеры военного времени, наспех подготовленные из разночинцев и фабричных (происхождением по большинству из крестьян), социально ориентированные, и только у половины есть среднее образование. Уставшие, разочарованные, полуголодные и полуодетые солдаты насквозь пронизаны зловещими криками революционных буревестников. Хотят только мира и земли – больше ничего совершенно.
В расположение нашего фронта Северным морским путем прибыл крейсер «Варяг» – понятый со дна, восстановленный японцами и купленный нами у них же еще до революции. «Варяг» – символ нашей несгибаемой воли и нашего поражения. Каково? Ирония или сарказм? Я уже ничего не понимаю.

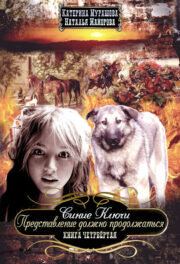
"Представление должно продолжаться" отзывы
Отзывы читателей о книге "Представление должно продолжаться". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Представление должно продолжаться" друзьям в соцсетях.