На протяжении чаепития царила напряженная тишина, я выжидательно тупила глаза, ковыряя ложечкой плотные бордовые клубничные ягоды, наполовину погруженные в густой рубиновый сироп, но варения не ела, дабы не дать разрядиться хоть каким-нибудь^ движением этой напряженнейшей удушающей тишине. Внезапно со стороны Натальи Николаевны послышалось хлюпанье и шмыганье, и, подняв глаза, я убедилась в том, что не ошиблась: по лицу Натали текли слезы, нос ее сделался бордовым, как раз под стать варению в розеточках, а лоб покрылся странными розовыми полосами. На мгновение мне показалось даже, что и воздух вокруг нее приобрел какие-то сиренево-розовые разводы, словно фон на картине акварелиста, изобразившего натюрморт. "Что с вами, милая, полноте, – сердечно прошептала я, – может быть, вам надобно лекаря, так он живет здесь по соседству, и я могу послать за ним!" – "Ничего не надобно, – пролепетала Наталья Николаевна, – это обычные весенние смятения, столь хорошо знакомые моему сердцу. Мне уже легче". Говоря о лекаре, я вдруг ощутила сильную резь в области правого подреберья, и эта боль настолько заняла меня, что я даже не заметила, как Натали спешно засобиралась, стараясь ничего не забыть и оставляя чай нетронутым. Мое внимание вновь вернулось к ней, когда она уже прощалась со мной, от всего сердца благодаря за дружеское участие и радушный прием. "Я сама заеду к вам днями, – сказала я с нежностью, – справиться о вашем здоровий, да и просто повидать вас, голубушка". – "Что бы все это могло означать? – подумала я, оставаясь одна в комнате, одновременно о поведении Натали и о боли в боку. – Может ли это содержать какую-нибудь опасность для меня?" Побыв в комнате две-три минуты, глотнув чаю и сделав несколько резких движений и даже приседаний, дабы проверить, не усилится ли боль, я решила отправиться к Жоржу, чтобы немного потормошить мерзавца и удостовериться по его реакции, все так же сильно он меня любит, как и намедни, или страсти его поубавилось. Жорж находился у себя в кабинете, он сидел в шелковом полосатом халате за столом перед раскрытой газетой, с пристальным вниманием изучая форму ногтя на большом пальце правой руки. Он не заметил, как я вошла, и только охнул, ощутив мое яростное прикосновение к его бакенбардам, которые от оного несколько поредели. "Это ты, душа моя!" – радостно воскликнул Жорж, прикладывая немалые усилия к тому, чтобы сохранить остатки бакенбардов вместе с вовремя посаженной на свое лицо улыбкой. "Это я, котик, я, я, я", – замурлыкала я и принялась быстро и удивительно метко покрывать лицо его поцелуями, в надежде на скорый и столь же пламенный ответ. "Что ты делала сегодня целое утро? – осведомился Жорж – Я не решался выйти, не зная, что именно ты предпримешь!" – "Ко мне заезжала Натали, – холодно ответила я, – нервы ее вконец расстроены, мне нужно было поддержать бедняжку, да и конюх твой совсем потерял совесть, так пялился на меня сегодня, что мне пришлось приказать высечь его", – добавила я, уже выходя из комнаты, но потом передумала и вернулась к Жоржу, чтобы покрепче куснуть его за мочку и подвергнуть испытанию суровым взглядом. Куснуть я успела, но взгляда не получилось, боль в боку заговорила с новой силой, и я была принуждена, спешно прошептав: "Что-то мне нездоровится сегодня", вылететь вон из кабинета мужа. В спальне меня ожидало письмо. По первым же строкам я поняла, от кого оно. "Милая моя голубушка, – писал он, – вот уже несколько дней я не видел Вас и совершенно не нахожу себе места. Я посвятил Вам несколько стихов, но сжег их все, так как они ничто рядом с Вашими совершенствами. В эти дни, охваченный тоскою и подавленностью, я совершил несколько долгих прогулок, но весенняя грязь только растравила мои раны, неужто, Ангел мой, единственная отрада моя, мольбы мои останутся неуслышанными? Кстати, вчера я познакомился с N. N. Молва о ней сильно преувеличивает действительность, а в душе она, небось, такая же курва, как и все прочие, ей-ей! Так когда же, Бог мой, Вы…", но дальше читать я не смогла, буквы поплыли у меня перед глазами, которые в последнем своем усилии все же узрели "Искренне Ваш А. П.", после чего воцарился полнейший мрак, и чувства окончательно покинули меня. Когда я пришла в себя, то сразу же увидела Жоржа, сидевшего подле меня с письмом в руке. "Это письмо должно было сразить не тебя, голубушка, – высокопарно вымолвил он, – но меня. Что сие означает, скажи на милость?!" – поинтересовался он, имея в виду одновременно как состояние моего здоровья, так и содержание письма. "Ты же видишь, друг мой, я умираю, – ответила я, собрав последние силы, – дай Провидению решить судьбу мою, и тогда ты узнаешь, сколь предана и верна я тебе, какие бы случайности ни омрачали твоего впечатления". – "Тогда я пошлю за доктором", – смягчился Жорж, убирая письмо в нагрудный кармашек халата. Не говоря ни слова, он поднялся и нетвердой походкой направился к выходу. "Карты и вино сделают из этого очаровательного, но слабого волей мужчины маразматика и свинью", – мелькнуло у меня в голове прежде, чем сон успел овладеть мною. "Надобно определить его на службу", – подумала я уже во сне.
Доктор осматривал меня с подобающей неспешностью. Это был немолодых лет лысоватый немец, присланный знакомым, жившим по соседству лекарем вместо себя самого, так как зубной недуг лишил его возможности врачебной практики, по меньшей мере, на несколько недель. Коснувшись холодными пальцами моего живота, врач осведомился о течении болезни, но акцент его был столь же силен, сколь и слабость моего организма, посему вопрос свой он был принужден повторять несколько раз. "Боль обозначилась стремительно", – ответила я наконец. "Mala herba cito crescit"[1], – объяснил он. «Угасает, угасает», – послышался из-за двери радостный шепоток Жоржа, охваченного надеждой на скорое и полное свое освобождение от меня. «Mais dans quelques jours je serai deja retablie»[2],
– сказала я доктору по-французски, чтобы и он, и все остальные накрепко усвоили и не обременяли себя пустыми надеждами. Жорж разочарованно смолк за дверью, доктор установил неумеренное разлитие желчи, но от кровопускания я отказалась, учитывая естественное кровотечение, ожидавшее меня в ближайшие дни. В последующие несколько суток, исполняя предписания доктора, я оставалась в постели, соблюдая полный покой, а также диету, состоявшую в отказе от всякой доставляющей удовольствие пищи. Мысли мои были заняты составлением прощального письма А. П. , и основная забота моя заключалась в том, чтобы не потерять его совсем, сохранить как друга, хотя бы для переписки. Для этого было необходимо убедить его подписывать письма именем покойного моего двоюродного брата, умершего во младенчестве: Жорж не знал ни о его появлении на свет, ни о его кончине, так что подписывать письма именем бедного Левушки было бы совершенно безопасным. Письмо выходило следующим: "Милый мой и нежнейший друг! Путь наш на этом свете усеян сплошными страданиями, а луч надежды и счастия, который посылает нам небо, едва коснувшись наших сердец, меркнет и угасает в том дремучем сумраке, который со всех сторон окружает нас. Тайна наша раскрыта, я отдана другому, и посему никакие наши встречи впредь невозможны. К тому же здоровье мое разладилось окончательно, и в самое ближайшее время, как только Господь даст мне силы, чтобы подняться, мы переедем с мужем в деревню для окончательного поправления моего здоровья. Только об одном молю Вас, милый мой и драгоценнейший друг! Не покидайте меня совсем, не лишайте меня последней отрады и пишите мне, делать это возможно отныне открыто, только чур подписывайте письма инициалами Л. Т. и ничего не расспрашивайте у меня, пусть это будет последней прихотью столь бесконечно любящей Вас и преданной Вам А. К. Будьте счастливы, да благословит Вас Небо.
Навеки Ваша А К."
Письмо это было незамедлительно написано и отправлено.
Болезнь продержала меня в постели около недели. Силы возвращались медленно, особенно учитывая пресную однообразность дозволенного мне питания. За эту неделю я не видела никого, кроме Жоржа, которому при первой встрече я подарила прадедов бриллиантовый перстенек и поклялась в вечной преданности и любви. Я за эту неделю, признаться, изрядно истомилась и исскучалась, да и душевная рана, нанесенная мне вынужденным расставанием с А. П. , кровоточащим своим отблеском озаряла все мои мысли. В это время я отписала несколько писем маменьке, а также отослала одно письмецо моей старейшей подруге по пансиону, жалуясь на суровость и несправедливость жизни, обращающей все юношеские устремления нашей души, устремления, быть может, самые светлые, трепетные и пронизанные истинным светом, в прах, ложащийся непроницаемой пеленой на очи наши. На протяжении всей недели я не принимала никого, так как находилась в состоянии преплачевнейшем, но когда уже на излете оной мне доложили, что Наталья Николаевна пожаловали, дабы проведать меня, я не утерпела и решилась принять ее. Одевание отняло у меня немало времени и сил. Хоть я и обливалась хладным потом, но все же не забыла придать, при помощи пудры и румян, лицу своему некоторые краски жизни, однако когда я увидела в гостиной Натали, то вся обмерла, так хороша и свежа была она в тот день. Разговор долго вращался вокруг различных пробуждаемых весною хворей, вызванных суровостями российского климата – в марте хоть и звенит первая капель, но надежды на скорое тепло тщетны, в апреле слякотно и грязно, а в конце апреля не преминет последняя снежная буря напоследок облагородить знаменитые своею развороченностью мостовые наши, а к маю как раз и дозревает, если есть в каком организме какой изъянишко, раздразненный осенне-зимне-весенней непогодой, до разрешения своего, разрешения мучите, льного и часто смертоносного. И только под конец нашего не слишком долгого соразмерно случаю свидания разговор как бы вскользь коснулся Пушкина. Наталья Николаевна сказала, что видела его за прошедшую неделю дважды на балах, что он произвел на нее уже не такое мрачное впечатление, как во время их первой встречи, он якобы даже несколько раз блистательно пошутил в ее присутствии, что скорее соответствует тому представлению, которое Наталья Николаевна сложила о нем по многочисленным сплетням, изображающим поэта как дамского угодника, острослова и сердцееда. Это последнее из сказанного Натальей Николаевной причинило мне прямо-таки адские муки, поскольку явно свидетельствовало о том, что Пушкин не слишком опечален нашим разрывом и готов найти утешение в первой же первой красавице, попавшейся на его пушечном пути. Указав без церемоний на то, что я не оправилась еще окончательно, я прервала Натали почти что на полуслове и стремительно простилась с ней, не забыв, правда, пригласить ее на прощальный обед, который мы давали с Жоржем в честь моего выздоровления, а также в связи с нашим отъездом в деревню, мысль о котором ввергала Жоржа в состояние, близкое к отчаянию, выражавшееся в непрерывной порке конюха. Обед, как сейчас помню, был назначен на среду, таким образом, ему надлежало состояться через четыре дня. Прощаясь, я даже не осмелилась поднять глаз, зная, какое горе отображали они. Что поделаешь, время радоваться, время и страдать.

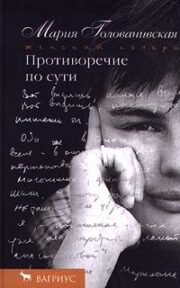
"Противоречие по сути" отзывы
Отзывы читателей о книге "Противоречие по сути". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Противоречие по сути" друзьям в соцсетях.