– Ну, например, что я голыми руками убил больше тысячи человек. Что я сбежал из Ньюгейта, разогнув железные прутья решетки. Что я одолел мужа герцогини Корк в бешеном приступе ревности. О, а вот это мое любимое: что я лично убил печально известного преступного лорда Кровавого Родни Грейнджера с помощью гусиного пера.
Фара порылась в своей памяти.
– Родни Грейнджер был убит тридцать пять лет назад, – заметила она.
– Ну да, еще до моего появления на свет, – усмехнулся Блэквелл, поднося к губам бокал красного вина.
– Тогда почему бы вам не опровергнуть эти выдумки?
Дориан небрежно пожал плечами.
– Все эти пересуды скорее помогают, чем мешают, – вымолвил он. – Чем больше люди меня боятся, тем большей властью я обладаю.
– Но это ужасно!
Он одарил ее лихой полуулыбкой.
– Знаю, – сказал Блэквелл.
Фара добавила к куску торта кусочек наполненного кремом рога изобилия. Вино пробудило в ней безрассудство, и она широко растянула губы над десертом, наполнившим ее рот смесью сладкого декаданса.
Немигающий глаз Блэквелла впился взглядом в ее рот, пытающийся удержать избыток жирных взбитых сливок. Кожа вокруг ее губ побелела. Фара поискала салфетку. Ну да, она же бросила ее в Блэквелла, потому что он этого заслуживал, и дурно воспитанный негодяй даже не подумал вернуть ей ее. Пожав плечами, Фара обтерла губы пальцем, а затем слизнула сливки языком.
Винный бокал вдребезги разлетелся в руке Дориана. Пролетел миг, прежде чем кто-то из них отреагировал на это. Вино цвета запекшейся крови растеклось по золотой скатерти. Осколки стекла отражали свет от свечей в многочисленных блюдах.
Глаз Дорина вспыхнул черным пламенем. Не от ярости, а от более сложного, темного чувства. Его ноздри раздувались от глубоких, неровных вздохов, как у скакуна, несущегося в ночи.
– У вас идет кровь! – Фара ахнула, когда красные ручейки потекли из его сжатой ладони и загустили винное пятно кровью. Встав, она потянулась к его руке, ища салфетку, чтобы зажать рану.
– Нет! – Блэквелл так резко вскочил, что его стул перевернулся и упал на пол. Он возвышался над Фарой, пряча раненую руку за спиной и предупреждая ее опасным блеском глаза.
Фара хотела шагнуть к нему.
– Если вы не позволите осмотреть…
– Не приближайтесь ко мне! – прорычал он, крепко сжимая оба кулака, в один из которых, без сомнения, впился кусок стекла. – Это понятно?
– Я просто…
– Никогда!
Лед в его голосе сковал то немногое тепло, что расцвело было между ними. Фара отшатнулась от него, хоть и вздернула подбородок.
– Можете не беспокоиться, что я еще раз совершу эту ошибку, – отозвалась она.
Верхняя губа Блэквелла скривилась в леденящей ухмылке.
– Смотрите, чтобы этого не случилось, – бросил он.
– Б-б-блэквелл! – Тэллоу выскочил из-за угла кухни, больше всего смахивая на пугало в лакейской ливрее; за ним спешил краснолицый Мердок. – М-мы ус-слыш-шали ш-ш-ш… – Похоже, при виде разбитого бокала и крови речь Тэллоу застыла на неопределенное время.
– Мы услышали шум, с вами все в порядке? – Мердок прикоснулся к руке Тэллоу.
Фара, конечно, огорчилась, но не настолько, чтобы не заметить этот защищающий жест.
– Мы закончили трапезу. – Дориан сделал это холодное замечание таким тоном, словно кровь не капала из его кулака на дорогой ковер под ногами, а осколки разбитого винного бокала не искрились при свете свечей. – Позаботьтесь о миссис Маккензи и убедитесь в том, что все на завтра приготовлено. – Последнее приказание было отдано им через широкое плечо, когда Дориан повернулся.
– Блэквелл, – начал Мердок, – позвольте мне…
Один его взгляд заставил Мердока замолчать, а затем Блэквелл ушел, оставив за собой лишь тени и кровь.
Челюсть Дориана болела, с такой силой он ее сжимал. Дрожь в руках никак не была связана с крючковатой иглой, которой он зашивал подушечку большого пальца, так же, как за годы зашил уже столько собственных ран, что и не сосчитать. Но вот с дрожью, похоже, совладать не получалось.
После того как он вытащил осколок бокала, застрявший в его плоти, кровь пропитала две импровизированных повязки и окрашивала воду в тазу, стоявшем возле его кровати, в темно-розовый цвет, пока он не остановил кровотечение.
Огонь в его крови казался предательством. Сила желания потрясла Блэквелла. Правда, слово «потрясать» было недостаточно сильным для описания чистой, горячей энергии, опалявшей его кожу, но Дориан не мог подобрать другого. Что было странно, потому что он прочел словарь и запомнил все слова. И их значения. Их синонимы, антонимы, словосочетания с ними и спряжения.
– Черт! – выругался он, слишком глубоко проткнув мышцу иглой. К счастью, он держал бокал с вином в левой руке, когда желание обрушилось на него с силой удара палицы викинга, заставив кулак сжаться, а хрупкий бокал – лопнуть. Зашивание раны правой, рабочей, рукой всегда позволяло сделать более аккуратный шов. Если бы у него не было так много ран! В некоторые из них он не мог проникнуть достаточно глубоко, чтобы свести их края, поэтому они оставались открытыми и кровоточили, гноясь, пока не отравляли тело гнилостной грязью.
Дориан сосредоточился на уколе иглы и жале нити, прорывавшейся сквозь кожу и плоть. Но этой боли оказалось недостаточно для того, чтобы отвлечь его от бушевавшей в нем страсти. Она лишь притупила постоянное болезненное напряжение в чреслах, но не устранила его.
Ничто не могло справиться с ним.
С того дня как Блэквелл увидел Фару, светящуюся, как серебряный ангел, в темной, серой бронированной камере Скотленд-Ярда, он хотел ее. Его тело, которое Дориан всегда считал невосприимчивым к позывам страсти, ожило от волнений и ощущений, до сих пор ему незнакомых.
Дориан слишком рано понял, что любовь и страсть имеют мало общего друг с другом. Любовь была чистой, бескорыстной, доброй и всепоглощающей. Она естественным образом приходила к таким, как Фара. Страсть, с другой стороны, была испорченной и эгоистичной. Она подавляла человеческую природу и превращала человека в темное существо, повинующееся влечению и инстинкту.
Женщины пользовались страстью, чтобы манипулировать.
Мужчины – чтобы доминировать. Унижать.
Даже сейчас Блэквелл испытывал желание подмять Фару под себя и продемонстрировать ей свою невероятную силу. Заявить, что рот, который так манил его за обедом, принадлежит ему. Молочно-белый крем, который она слизнула со своих губ, и ее палец вызвали в нем нежелательную картину того, как он клеймит ее рот сливочным доказательством собственного освобождения, которое она слижет с таким же наслаждением, как и десерт.
Фара была права. Он был негодяем, монстром, убийцей и вором. Человеком без совести и милосердия. Прошлое превратило его желание во что-то темное и извращенное. Ему нравилось наблюдать за ней. Рассматривать ее, когда она понятия не имела, что за ней наблюдают. Ему нравилось выражение ее лица, освещенное неприкрытым любопытством, с которым, как ему было известно, она родилась. То, как Фара тянулась к заинтересовавшим ее вещам, которые ей хотелось потрогать руками, а не только увидеть. То, как она водила пальцами по своим открытиям с почти плотским наслаждением, как будто в собственной невинной манере получала чувственное удовольствие от всего мира.
Это поразительное зрелище оказалось для него непостижимым.
Ее тонкие, бледные, изящные руки и ловкие, проворные пальцы. Исследующие. Обнаруживающие.
Поглаживающие.
Член Блэквелла подергивался и трепетал, требуя от него что-то, чего он не мог дать. В прошлом он пытался удовлетворить потребности своего тела. Но даже прикосновение собственной руки показалось ему отталкивающим.
Желание и отвращение бурлили в его животе, почти не оставляя места роскошному обеду, который он разделил с Фарой, и усиливая дрожь в его конечностях.
Нынешний вечер станет еще одной вечностью.
Блэквелл уже почти чувствовал покалывание и зуд под кожей. Потом его охватил жар. Лихорадочная, пульсирующая пытка. Его тело и разум оказались в тупике желания и враждебности. Его природный инстинкт совокупляться был подавлен воспоминаниями о мечущихся тенях и необузданной похоти. О жестокости. Беспомощности. Слабости. Криках. Воспоминаниями о том, как он шептал любимое имя, прикасаясь отчаявшимися, кровоточащими губами к холодной и зловонной земле. Но он отрешится от боли. Представит, что держит ее маленькую руку в своей руке. Кудри цвета лунных лучей, сделанные из шелка. Глаза, напоминающие озера из жидкого серебра. Улыбка с ямочками на щеках.
Один долг удержал его от погружения во тьму этой сырой, гниющей тюрьмы. Одна клятва. Это дало ему силу вести за собой людей, храбрость, которую Дориан превратил в безжалостность, отчаяние, которым он владел как клинком, пока его враги не оказывались лицом в грязи.
В такие ночи, как эта, пока она не задремала под его крышей, Дориан бросал попытки заснуть. Если желание одолевало его, то же самое делали и тени, рвущиеся в его душу, пока он не просыпался в поту, с криками и с клинком в руке. В другие ночи вместо теней его лизал огонь. Он рвал Блэквеллу кожу и выкручивал ему мышцы до тех пор, пока он не просыпался в постыдной влаге своего освобождения, испачкавшей простыни.
В такие утра Дориан мылся в обжигающей воде, отскребал себя до тех пор, пока огонь не умирал, а кожа не становилась красной, припухшей и кровоточащей.
Вместо того чтобы спать, Дориан отправлялся бродить по коридорам, и обычно его прогулка завершалась в библиотеке, где он находил убежище в книге.
Блэквелл посмотрел на кровать, аккуратно застеленную, с отогнутым для его удобства одеялом. Красное белье служило постоянным напоминанием о пролитой им крови. О той крови, что он потерял.
Внезапно ему не захотелось смотреть на нее, не говоря уже о том, чтобы лечь под одеяло. Этой ночью он не станет пищей для ужасов прошлого.

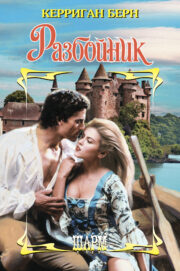
"Разбойник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разбойник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разбойник" друзьям в соцсетях.