– Колин, – пробормотала она, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы, – люди меняются. Они меняются очень быстро, несмотря на все свои благие намерения.
– Нет, – решительно возразил Колин. – Я даю тебе слово. Посмотри на меня, Линдсей. И когда будешь обдумывать ответ, помни: я не собираюсь упускать этот автобус, даже если мне долго придется бежать за ним.
Он помог Линдсей встать на ноги и повернул лицом к себе.
– Ты сейчас такая красивая! Щеки снова порозовели. Твои глаза… Я не стану спрашивать, почему у тебя слезы в глазах, я знаю, что, когда придет время, ты сама скажешь. А пока я хочу тебя поцеловать. Не спорь, и не падай в обморок, и не двигайся.
Он поцеловал ее. Роуленд, вернувшийся с водой и льдом, увидел, что помощь уже не нужна. Он посмотрел на обнявшуюся пару и пошел обратно.
Роуленд вернулся в квартиру Эмили. Там его познакомили с Генри Фоксом – маленьким грустным человечком, и тремя древними дамами, имена которых он так и не смог запомнить до конца вечера. Слыша, как Ник Хикс безостановочно сыплет именами, он понял, что если пробудет рядом с ним хотя бы еще минуту, то не сумеет себя сдержать. Тогда он пробормотал невнятные извинения и ушел на кухню.
Фробишер, любившая его не меньше Эмили, едва взглянув, приставила Роуленда к работе. Теперь в этом доме все не так, как раньше, сообщила она, и он может оказаться полезным. Он может открыть вот это вино, подержать супницу, пока она будет процеживать в нее алгонкинский суп. Наконец он может зажечь свечи в столовой, но она предупреждает, что в комнате сквозняк, а свечи с характером, поэтому они все время гаснут.
Роуленд перешел в столовую – мрачноватую, полутемную холодную комнату. Он поплотнее задернул шторы, потом начал одну за другой зажигать свечи в подсвечниках. В этой комнате, освещаемой зыбким пламенем свечей, он ощущал странное беспокойство, ему казалось, что если он обернется, то кого-то увидит. Последняя свеча никак не хотела разгораться. Роуленд терпеливо чиркал спичками, и, когда свеча наконец зажглась, он вдруг услышал посторонний звук. Роуленд обернулся, явственно ощутив чье-то присутствие, но комната была пуста.
Он обжег пальцы, уронил спичку, прислушался. По стенам скользили тени, два голоса – мужской и женский – шептали о прошлых потерях и одиноком будущем. Потом раздался звук, похожий на звук льющейся воды, а когда он наклонился над столом, до него донесся новый голос, заглушавший жалобный шепот.
Не так быстро, как Линдсей, но Роуленд различил детский плач. Что-то скользнуло по его руке, и он вздрогнул. Его сердце было полно безысходного горя. Теперь он не слышал ничего, кроме тишины – тишины, полной ожидания. Он уже сомневался в том, что правильно определил взволновавший его звук, и ощутил нечто вроде разочарования, ибо был уверен, абсолютно уверен, что слышал невозможное – зов сына, которого у него никогда не было.
– Джонатан, попробуй поесть, – сказала Наташа Лоуренс. – Пожалуйста, дорогой, попытайся. Анжелика так старалась.
Ее сын наколол на вилку крошечный кусочек индейки, положил в рот и долго жевал. Наконец он сделал глотательное движение и низко опустил голову над тарелкой.
– Наташа, не надо его заставлять, – тихо сказал Томас Корт. – Анжелики нет, и она все равно не увидит, ест он или нет.
– Дело не в этом. – Жена нервно передернула плечами. – Это наш первый праздничный обед в новой квартире. Я так старалась, чтобы все было хорошо, я хотела…
– Сладкий картофель очень хорош, – миролюбиво перебил ее Корт. – Можно мне еще?
Как только Наташа вышла из комнаты, глаза отца и сына встретились. Корт приложил палец к губам и переложил большую часть содержимого тарелки Джонатана на свою. Когда она вернулась, оба размеренно жевали.
Корт, у которого начисто отсутствовал аппетит, время от времени окидывал взглядом столовую. Он так и не получил приглашения осмотреть квартиру, он видел лишь несколько комнат – белый холл и белую гостиную, где они с Наташей ссорились накануне. И вот теперь он получил возможность взглянуть на столовую. Как сообщила Наташа, дизайнер, рекомендованный Жюльетт Маккехни, декорировал ее по собственному вкусу.
По воле этого неизвестного Корту человека стены были выкрашены в темно-красный цвет. Мебель, старинная, тяжелая, Бог знает где приобретенная, была черной. Корт сидел напротив жены за безбрежным столом из мореного дуба, сына он едва видел за рядом тяжелых подсвечников. Пространства между мебелью заполняли причудливые растительные аранжировки, белые орхидеи взывали к нему с низкого столика, белые орхидеи с зияющими зевами глазели на него с картины Наташиной матери, висевшей над камином. За решеткой тлел огонь, чадящий дымом, огонь, который не давал и не мог давать тепла.
Комната казалась Корту неуютной, рождала тревогу и смятение. Ему было жалко Наташу и жалко сына, который должен был считать этот обширный мавзолей своим домом. Он подумал о маленьком, уродливом домике, в котором прошло его детство. Свой дом он никогда не любил и при малейшей возможности сбегал в кинотеатр, находившийся в двух милях.
Этот кинотеатр, с его убогим звуком, старым поцарапанным экраном, публикой, приходившей туда не за тем, чтобы смотреть фильм, был единственной радостью его детства. Частные сыщики, лихие ковбои, вампиры, зомби и супермены – все отбросы киноиндустрии вечер за вечером проходили перед его глазами. До сих пор в его душе иногда просыпалась внезапная тоска по этим гангстерам и их любовницам, апачам, собирающимся на горизонте, крутым диалогам и широкополым шляпам. Он видел себя мальчиком, завороженно устремившим глаза на экран и шепотом повторявшим заученный наизусть диалог, изучавшим магический язык кино.
Он был уверен, что когда-нибудь полностью овладеет этой магией. И только теперь, когда он стал признанным мастером, когда здоровье было утрачено, а жизнь испорчена, он начал понимать, каким ненасытным аппетитом обладает монстр, которому он служит. Этот монстр поглотил его заживо – а каков результат? Лишь отдаленное приближение к идеалу.
Одним из его грехов, но одновременно и величайшим даром, было то, что призраки его работы были для него большей реальностью, чем все существующее. Жена не раз обвиняла его в том, что он живет в параллельном мире. Даже сейчас воздух в столовой был полон этих призраков, они теребили его за рукав, молили дать им воплощение. Он слышал два мужских голоса, о чем-то споривших, слышал женские шаги. Именно таким призрачным путем к нему приходили идеи фильмов. Всех, кроме последнего, подумал он. Он тряхнул головой и вернулся в красную комнату. Наташа поднялась из-за стола.
– Джонатану пора спать, – сказала она. – Я только уложу его и вернусь. Ты можешь перейти в гостиную. Дорогой, поцелуй папу.
Корт ждал, не предложит ли она пойти вместе с ними и ему. Видя, что предложения не последует, он встал и протянул руки навстречу сыну. Джонатан стоял с напряженным и бледным лицом. Он взглянул на мать, потом бросился в объятия отца и прижался к нему.
– Папа, завтра утром ты здесь будешь? Ты будешь здесь, когда я проснусь?
– Нет, дорогой, – ответил Корт, скрывая свои чувства. – Завтра утром я уже начну работать. Я уеду еще до того, как ты проснешься. Помни, скоро мы все вместе поедем в Англию. А теперь – марш в кровать. – Он крепко обнял сына, передал его матери и потом долго слушал их удалявшиеся шаги. Он вернулся в белую гостиную, подошел к камину, разворошил угли, и пламя ожило.
Корт взял кейс, который принес с собой – с факсами, фотографиями, документами, которые теперь сыпались на него ежедневно. Сегодня вечером он должен был показать их Наташе и все ей рассказать. Где ей следует сидеть во время этого объяснения? Он оглядел комнату, как если бы это была съемочная площадка, поставил освещение, убрал раздражавшую его подушку. Он прорепетировал умиротворяющие фразы – в конце концов, самое важное было то, что тайны Джозефа Кинга больше не существовало. Теперь им занимались власти, и скорый арест был неминуем. Главное, он должен подчеркнуть, что отныне Наташа и Джонатан в безопасности.
Однако он не чувствовал себя в безопасности. Эту реакцию он приписывал многим годам беспокойства и атмосфере «Конрада» вообще и этой квартиры в частности. Он винил также кинематографические приемы, которыми всегда был насыщен его мозг. В фильме, непрерывно прокручивавшемся у него в голове, зло не желало умирать: с пола поднимался поверженный враг; из могилы высовывалась цепкая рука; как раз в тот момент, когда герой обнимал героиню, гас свет и раздавался скрип двери.
Дверь действительно скрипнула. Он, нахмурившись, прошел через холл, посмотрел в глубину тусклого коридора, который, судя по чертежам Хиллиарда Уайта, вел к внутренней лестнице, ведущей на верхний уровень, где были расположены спальни Наташи и Джонатана. На планах квартиры этот коридор проходил строго по центру, а сейчас Корт видел, что он вовсе не прямой и смещен в сторону. Он загибался под углом, которого на плане не было, а справа вместо предполагаемой комнаты была стена. Он скользнул взглядом по картине Наташиной матери, висевшей на стене. Эта картина вызывала в нем наибольшее отвращение, на ней была изображена мужская рука, сжимающая мясистый стебель отвратительного белого цветка. Вдобавок картина висела криво. Корт потянулся, чтобы ее поправить, но вдруг услышал за стеной настойчивый скрежещущий звук, словно кто-то царапал штукатурку, отчаянно стараясь выбраться наружу. Корт, выросший в сельской местности, сразу понял, что это крыса.
Мальчиком он стрелял крыс в амбаре у своего дяди. Это было непросто, потому что крысы были ловкими и быстрыми. Они умирали не сразу – долго извивались, кувыркались и визжали. Это было отвратительно, но он смотрел как завороженный. Особенно мерзко было собирать дохлых крыс – его преследовал суеверный страх, он боялся, что какая-нибудь из них оживет и укусит его. Он обнаружил также, что живые крысы уносят куда-то трупы. Они делали это ловко и смело, их не отпугивало даже его приближение. Корт не понимал, зачем они это делают: устраивают ли собратьям пышные похороны или пожирают их. Он стоял, уставившись на стену, на лбу выступили капельки пота. Все детские страхи ожили в нем. Но скрежещущий звук внезапно оборвался.

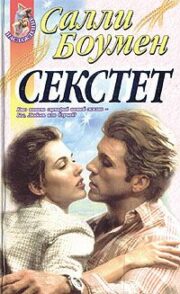
"Секстет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Секстет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Секстет" друзьям в соцсетях.