– Кофе будешь? – ее веселая мордаха, потешный халат.
– Со сливками? – моя опухшая морда, небритая борода.
– С колбасой и сыром.
– В кровать?
– В кровать.
– Тогда прыгай!
– С кофе?
– С кофе!
Полет фантазии отдыхает. Какое счастье, что я не убийца! Моя пташка жива и где-то даже здорова.
И полетели дни, а в них… Чего только в них не было! Сначала странного, потом еще более странного, в конце – совсем необъяснимого. Но вначале маленькая хозяйка моего большого дома вступила в свои законные права. Ощущение, надо тебе сказать, малоприятное.
Я не привык, чтобы кто-то ворошил мои вещи, а тем более грязное белье. Именно поэтому у меня никогда не было помощниц по хозяйству, хотя при моем образе жизни мне бы это не помешало. У пары моих приятелей прислуживала одна тетка, и они были ей вполне довольны и горячо мне ее рекомендовали, но одна только мысль, что кто-то чужой в мое отсутствие будет вздымать пыль с моего рабочего стола, вызывала у меня отрыжку и микрозаворот кишок.
Оленька, конечно, не чужая, Оленька, естественно, своя, но та неуемная прыть, с которой она взялась за наведение идеального порядка в моей холостяцкой берлоге, меня несколько обескуражила. Постепенно у меня сложилось впечатление, что моя принцесса просто надух не переносит грязи, и вместо того, чтобы просто не замечать ее, она закатывает рукава и вступает с ней в неравный бой. Я простил ей кухню, я простил ей гостиную, спальню, ванную, но кабинет! Ты знаешь, кабинетом я называю ту комнату, в которую я обычно складываю дорогие моему сердцу вещи, которым не нахожу ежедневного применения. Мои лыжи, сноуборды, ружья, велосипед… Штативы, «Никоны», коллекция печатных машинок, бабочки, альбомы с марками – все хранится там и имеет свое, хорошо продуманное место. И хотя моя Оленька немногое там изменила, но сама атмосфера была уже не та. Нарушена она была, поругана.
Разумеется, я ничего не сказал, разумеется, она все поняла. Она, вообще, была понятливая, угодить мне пыталась во всем. В глаза заглядывала, искала одобрения, словно пыталась загладить чью-то вину. Чью-то? А, может быть, свою? Но в чем же она провинилась передо мной? Что она сделала такого страшного, омерзительного, непростительного, за что так тяжко, так совестливо, так унизительно теперь расплачивается?
Вован, я хотел принцессу, а получил рабыню. Я хотел служить, а мне прислуживали. Я хотел носить ее на руках, а мне мыли ноги. Я хотел угождать, а мои собственные желания, капризы, прихоти выполнялись с маниакальной точностью и словно сами собой. Плохо мне было? Сначала – да! Но постепенно я привык и даже полюбил возвращаться домой пораньше к Олькиным импровизированным щам. Утренние наглаженные рубашки тоже были очень хороши. Носки! Вован, носки, какая проза жизни! И те в аккуратных плотных комочках. Раньше я засовывал их штук по сорок в стиралку, а потом в уже сухой шевелящейся куче долго не мог найти двух похожих друг на друга особей. Вован, и эту мерзость она делала для меня. Принцесса, не чувствующая под собой горошины, умудрялась даже мне ботинки чистить! Когда только успевала? По ночам, мне казалось, я ни на минуту не упускал ее из поля зрения. А ночи, Вован, это – отдельная песня.
Все то, что так непомерно раздражало меня днем, страшно возбуждало ночью. Респект тому искушенному подонку, который всему ее обучил. Женщина-наложница, проститутка, послушница каждый вечер садилась на пол между моих ног и совершала надо мной обряд восхождения. Меня спасали только ее волосы, если бы не они, я бы давно улетел с этой планеты, но я из последних сил держался за Олькин конский хвост, краем глаза наблюдая, как колышется в зеркале мой римский торс и профиль ближневосточной национальности.
Это было вначале ночи, а потом еще и утром. Такой был у нас порядок, ее напутствие перед моим грядущем днем, заговор на удачу, прощальный низкий поцелуй, засос, глубокая гортань, ребристое нёбо, бережные зубы, заботливый язык… Как я ненавидел в конце процесса этого урода, который был с ней так жесток, ибо только кнутом, а отнюдь не пряником, можно было обучить такую маленькую девочку столь тонкому мастерству.
Я ненавидел, а пользовался… Я ревновал, и получал от этого какое-то извращенное удовольствие. Я ее ел, глотал, рвал на куски и запивал ее же собственными слезами, потом, слюной и всей другой щедросочащейся влагой…, я пожирал ее всю от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспиролв, и не мог ею насытиться! Как она пахла! Как она пахла везде, как благоухала, ароматизировала, погружала меня в облака своих естественных умопомрачительных запахов…
Запах женщины! Вован, тебе это о чем-то говорит? А вот глупые американцы, кажется, знают в этом толк. Если бы я даже был слеп, как персонаж Аль Пачино, я бы шел на этот запах, и легко нашел бы свою единственную среди миллионов других, иначе пахнущих женщин. Вот так все просто, Вован. Любовь это – химия и ничего больше.
Что же не устраивало меня, напрягало, заставляло волноваться и оглядываться назад, в те памятные времена, когда мы обходились одной лишь перепиской? Я хотел, но я не мог перекинуть мост из нашего разнузданного сегодня, в наше целомудренное вчера. Инструментов под рукой не было, материалов, оснастки. Казалось, только за веревочку дерни, и дверь в прошлое откроется. Что я там потерял в этом прошлом, что хотел найти? Вновь и вновь я вскрывал нашу переписку и погружался в тот сумасшедший игрушечный мир, который был так дорог моему сентиментальному сердцу. Надо было с самого начала наших с Оленькой отношений уничтожить мой профайл в сайте знакомств, но я почему-то этого не сделал. Все чаще и чаще я туда заглядывал, но не для того, чтобы почитать почту или просмотреть чужие анкеты. Полковнику давно никто пишет, и никакая другая женщина не может больше меня ошеломить, но ностальгия по… По чему, Вован? По чему я настальгировал, я тогда и сам не мог себе объяснить.
И вот однажды!
Мне надо было сделать репортаж с одной мелкопартийной тусовки. Вернее, сначала был съезд, а только потом неофициальная часть, ради которой я туда и прибыл. Журналистов на это частное мероприятие, естественно, не пускали. Но среди нас была Алка-танк, ты помнишь ее, Вован, с канала «Новости плюс», на ее роскошных плечах я ворвался в крепость и там окопался. Со всей этой партийной сворой пришлось валандаться до самого утра. А еще Алка. С тебя, говорит, должок и поволокла меня к выходу. Это наши старые счеты, а долги я привык отдавать. Мне ничего другого не оставалось, как погрузить ее в машину и отвезти к ней домой. К счастью, она так надралась, что о процессе погашения долга не могло быть и речи. Я быстренько стряхнул ее в кровать и поспешил восвояси.
Обычно я открываю дверь своим ключом, но в этот раз почему-то позвонил. Мне долго никто не открывал. Спит, моя ненаглядная, умаялась бедная, подумал я и полез в карман за ключами. Каково же было мое удивление, когда я на тихих заботливых цыпочках прокрался в спальню.
Нет, Вован, ты не угадал! Эта не та история, когда муж в командировку, а жена тем временем… В спальне никого не было. Никого не было в гостиной, на кухне, в ванной и туалете… Оленьки не было нигде. Я кинулся к шкафу. Слава богу, хоть дубленка на месте. Значит, все-таки, не навсегда. Звонить ее матери? Зачем волновать старушку? Даже если она и знает, где ее дочь проводит ночи, вряд ли она соизволит поделиться этой радостью со своим новоиспеченным зятем. Оставалось только ждать и надеяться. Надеяться и ждать, что все обойдется.
Принцесса вернулась ближе к рассвету. Она была трезвой, но какой-то бледной и испуганной. Где ты была, спросил я. Не твое дело. С каких пор это дело не мое? Почему я должна перед тобой отчитываться? Потому что ты живешь в моем доме, потому что я несу за тебя ответственность! Пошел ты… Плевать я хотела!
Ну я и не сдержался… Она отлетела в угол и сползла по стене на пол. Прежде я никогда не бил женщин, стало так гадливо, что захотелось повеситься. Но Олька бросилась мне в ноги, обняла за колени и стала целовать мои руки. Прости меня, я больше так не буду, шептала она. Чего ты не будешь, спросил я. Не ночевать дома, сказала она. А где ты ночевала? У подруги. Ты врешь мне. Я не вру тебе! Сука!
Это был четверг двадцатое июня, потом то же самое повторилось во вторник двадцать пятого, потом снова в четверг. Сначала я не обращал внимания на дни, точнее ночи недели, когда Ольга отправлялась ночевать к своей матери. Теперь уже не к подруге, а именно к матери. Естественно, это легко можно было проверить, но я не мог опуститься так низко. А чуть позже меня отвлекли события уже не личного, а мирового масштаба. У меня появилась работа, связанная с их освещением, и я был этому несказанно рад. Более того, я сам напросился в командировку.
Оля, я ухожу на войну, Оля. Оля, ты будешь ждать меня, Оля? Писать толстые треугольные письма, ходить в храм, молиться за скорейшее возвращение? Оля?
Марат! Не ходи на войну, Марат! Тебя там убьют, Марат, я себе никогда не прощу, что так легко тебя отпустила! Там взрываются снаряды и рвутся мины, Марат. Берут в заложники и в плен прямо живьем. Марат?
Я все равно пойду, Оля. Эта моя работа. Надоела крутилка, надоело рыскать волком по Москве в поисках мелких сенсаций, Оля. Хочу, наконец, славы и денег. А также смены обстановки и климата. Оля?
Спасибо, Марат. Я вас поняла. Но если вы погибните, то мы тоже умрем! Потому что очень перед вами виноватые… И только кровь смоет мою вину. Марат?
Оля! Приеду – разберемся. Иди уже спать к чертовой матери.
И она пошла.
А я почему-то за ней.
В ту ночь она меня уже не поднимала, и я сам не хотел восходить. Мы были безгрешны как дети. Но утром все традиционно повторилось. Я снова был разбужен голосом моей сладкозвучной флейты и вновь устремился к небесам. Мы яростно мирились с самого рассвета и до полудня, и за этот короткий срок я простил своей ненаглядной все, что было до меня, во время меня и заодно и после. Еще бы знать, что именно я ей простил? И было ли то, что следовало прощать. Хотелось верить, что не было. Но мозг, как известно, состоит из двух половинок, каждая из которых имеет свою собственную точку зрения. И только в противоборстве двух этих энергий рождается истина, не требующая доказательств. И где она? Естественно, посередине.

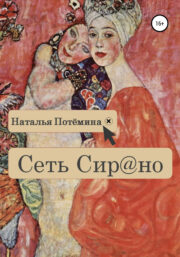
"Сеть Сирано" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сеть Сирано". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сеть Сирано" друзьям в соцсетях.