— И не узнает, — шепотом сказала Витка, — если ты, конечно, не растрендишь…
— Да я — могила! — вновь забарабанила по своей многострадальной груди Чигавонина, — слон не проскочит!
— Ладно, девки, — встряла тетка, — праздник, все-таки! Давайте встретим его и проводим.
Из вежливости позвали Пашу. Он отказался, мол, вы тут лучше сами. Надька обрадовалась, одним ртом меньше. Что касаемо Витки, то на общем консилиуме решили, что водка ей не повредит, и даже наоборот, лишний раз продезинфицирует.
Выпили по первой, налили по второй. После третьей Надьку неожиданно развезло. Сначала она минут десять стояла на коленях перед Виткой, обзывая себя самыми последними именами. Витка успокаивала ее и слезно просила встать. Чигавонина встала, отряхнулась и вдруг выдала:
— И вообще! Ты благодарить меня должна!
И понеслось! Хорошо, что Паша спал. Или не спал. Уже значения не имело. Вспомнили, и что было, и чего не было. Тетке тоже досталось. Если бы не она, то бы и не они. Витка чуть жизни не лишилась, Надька — десяти тысяч долларов. Тетка не оправдывалась, сколько уже можно?
Кстати, весть о пропаже Чигавонинских миллионов не произвела на Витку должного впечатления.
— В банке надо было деньги держать, а не под подушкой, — спокойно сказала она.
— А я их там и держала, — поскучнела Надька, — только за день до кражи забрала. У меня партия платьев из Англии пришла, надо было расплатиться.
— А кто мог знать о том, что деньги у тебя дома? — предприняла попытку частного расследования Витка.
— Тебе сказать или сама догадаешься?
Витка догадалась.
— Ну и что тогда мы тут сидим? В милицию не идем?
— А зачем туда идти? — пожала плечами Чигавонина, — когда и так все ясно.
— Ясно — это одно, но наказать-то надо! — настаивала Витка.
— Возмездие само найдет своего героя, — вдруг выдала Надька, — а я его сегодня за все простила.
— Как простила? — не поверила Витка, — он тебя всю ночь пользовал, наутро обобрал, как липку, и ты его простила?
— Да не было у нас ничего! — вдруг призналась Надька, — Сашка меня еще в театре бросил…
— Как бросил? — не поверила тетка.
— Очень просто, — усмехнулась Чигавонина. — Ему после первого акта кто-то позвонил. Он извинился и сказал, что ему надо отлучиться ненадолго. А ты, Надя, типа, жди меня. Жди меня! И я вернусь. Только очень жди!
— И ты осталась ждать? — возмутилась Витка.
— А что мне оставалось делать? — пожала плечами Надька, — сижу, на сцену смотрю, слезами обливаюсь. Там у одного нищего копеечку отобрали. Копеечку, представляете! Рыдаю — не могу! И невдомек, дуре, что у самой в это же самое время десять тысяч долларов уводят.
— А утром, как же ты? — спросила тетка, — такая веселая пришла?
— А я не сразу недостачу обнаружила, — вздохнула Надька, — а только, когда за бульоном вернулась. Сердце что-то так нехорошо сжало. Полезла в аптечку, а я деньги, как раз там, под лекарствами спрятала, ну и все. Подайте юродивой копеечку.
— А я бы на твоем месте не простила, — тихо сказала Витка.
— Ты и на своем не простила, — усмехнулась Надька. — Посмотри на себя, на кого ты похожа? Вся твоя жизнь — сплошное мщение. Только вот кому мстим? Ему? Или, может, себе любимой?
— Перестаньте! — крикнула тетка, — это уже невыносимо! Нашли из-за кого! Сашка Епифанов — негасимый свет! Один звонок в милицию и все — вопрос мести отпадает за ненадобностью. Его тут же через интернет вычислят и посадят!
— Не надо, — тихо сказала Надька. — Не надо никакой милиции. А то он сядет, а я виноватой себя считать буду. Начну его жалеть, передачи в тюрьму носить. Адвокаты, опять же. Тоже задаром не работают. А так я, можно сказать, обошлась малой кровью. Что такое десять тысяч? Месячный оборот. Зато у меня теперь никакой надежды не осталось. С легким сердцем помирать буду.
— Еще одна засобиралась, — заволновалась тетка, — ты еще всех нас переживешь! Посмотри, жизнь хорошая какая!
— А что в ней хорошего, Таня? — усмехнулась Чигавонина, — сама подумай… Зачем мы живем? Надеемся на что-то, замки воздушные строим… Если не сегодня, то завтра. А если не завтра, то на следующей неделе обязательно. А если не на следующей неделе, то лет через пять наверняка что-нибудь хорошее случится. Коммунизм, например, наступит, или рай на землю сойдет. Или просто так, без всякой причины все друг друга, наконец, полюбят.
Но проходит пять лет, а потом семь. И потом еще двадцать. И ты оглядываешься вокруг себя и понимаешь, что нирваны как не было, так и нет. И вокруг тебя все та же пустыня. Только фонарь посередине торчит. И ты одна около этого фонаря километры накручиваешь. И чувствуешь, что силы не те, и морда не та, и фигура почти вся сносилась… А на горизонте — ни души. И вокруг только кладбище выкуренных сигарет. И тут ты понимаешь, что вся твоя хорошая жизнь мимо прошла. И ничего другого не остается, как сесть на корточки и написать на асфальте губной помадой: Забудь надежду всяк ко мне входящий.
— И ко мне тоже, — зашмыгала носом Витка.
У тетки столь несвойственно-красноречивый Надькин монолог вызвал скорее восхищение, чем сострадание.
Налили. Выпили. Налили.
— Девки! — встрепенулась Надька, — а давайте мы Сашку отпустим!
— Как отпустим? — не поняла Витка.
— Очень просто! — загорелась Чигавонина, — мне одна невеста брошенная рассказывала. Платье пришла сдавать, а сама такая веселая! Я ее спрашиваю, как же вам удалось с ума-то не сойти? Ну, она и поделилась. Взяла, мол, воздушный шарик, выдохнула в него все свои обиды и отпустила в небо. Так сразу легко на душе стало, свободно!
— Ага, воздушный шарик, — усмехнулась Витка, — только где ты его в два часа ночи найдешь?
— Можно и не шарик, — прыснула Надька, — можно, что повеселей.
Продолжая ржать, она рылась в своей сумке. Потом плюнула и вывернула на стол все ее содержимое. В куче знакомого хлама она почти сразу обнаружила инородный серебряный пакетик.
— Чем это вам не шарик? По назначению использовать не удалось, так хоть так, — Витка эротично вгрызлась в упаковку, и тут же по кухне распространился пьянящий земляничный аромат. — Резиновое изделие №2, улучшенное и усовершенствованное!
Что у Надьки не отнять, так это оптимизма. Тетки развеселились. Но потом сосредоточились и дружно приступили к выполнению намеченных планов. Сначала у них плохо получалось. Противно было, смазка скользкая. Но потом они догадались ополоснуть «это» под струей горячей воды, и дело пошло куда лучше. Подышав по очереди в шарик, они завязали у его основания бантик и остались вполне довольными результатом своего труда. Надутый презерватив чем-то напоминал олимпийского мишку. Два смешных уха и пузо торчит.
— Ну, теперь на балкон! — скомандовала Надька.
И вся компания немедленно переместилась в гостиную.
На балконе Чигавонина резко поскучнела. Она прижала мишку к груди, явно не желая с ним расставаться. Тогда Витка аккуратно вывернула его из Надькиного тесного грудного пространства и, ласково пощекотав у медведя за ухом, передала его тетке.
— Все простились? — скорбно спросила она.
Девки молча закивали головами.
Тетка перекрестилась, зачем-то трижды плюнула через плечо и подбросила мишку к небу:
— Лети, Епифанов, лети!
Мишка на мгновенье завис, словно все еще не веря в реальность происходящего, потом испуганно дернулся в сторону, запетлял, путая по-заячьи следы, и, наконец, подталкиваемый снизу потоками теплого воздуха, стал быстро набирать высоту.
— До свиданья, Москва, до свиданья! — заголосила Надька.
— Олимпийская сказка, прощай! — вторила ей Витка.
Тетка провожала свою юность в последний путь молча.
Ольга
Я не ответила ему. А для надежности отключила на время телефон, чтобы у самой не возникло соблазна.
Илья звонил еще трижды. Второго мая два раза, и один раз третьего.
Четвертого — был сильный дождь. Я, естественно, под него попала. Шла из булочной, а дождь мне навстречу. Такой молодой, а уже такой наглый. Всю меня облапал. До самых трусиков. Иду, матерюсь, жизни радуюсь. Лужи такие теплые! Босоножки в руках. Ура! Скоро лето.
За угол заворачиваю, смотрю — Илюшина машина. И ладно бы я еще сухая была! Можно было развернуться и убежать. А я мокрая, как курица. А в стране, как назло, свирепствует птичий грипп.
Илюшенька меня тоже сразу заприметил. Выбежал из машины и навстречу. А в руках зонт, большой такой и надежный. И сам Илюшенька такой родной и повелительный:
— Садись скорей в машину, простудишься!
Хвать за локоток и поволок. А я послушная, как промокашка. А он дверь в машину открыл и меня внутрь затолкал. А я сижу, зубами клацаю, хотя нехолодно совсем. А он мне под ноги газетку подкладывает, чтоб с меня в его стерильный салон воды не натекло. А я послушно ноги поднимаю, чтоб ему удобней. Черт! Если б не эта газетка…
— Ты меня избегаешь? — спросил он.
— Избегаю, — сказала я.
— На звонки не отвечаешь?
— Не отвечаю.
— В университет не ходишь?
— Не хожу.
— Почему?
Только теперь я решилась посмотреть ему в глаза.
Глаза были все те же. Только, может быть, немного более усталые.
Зато галстук новый.
— Классный галстук, — сказала я, — тебе идет.
— Прости меня, Олененок, — он положил мне руку на колено и попробовал продвинуться выше.
Несовпадение слов и действия произвело на меня какое-то странное, новое впечатление. Как будто было произнесено слово не из той песни. Или не из той оперы? Еще каких-то пару недель назад я бы на это не обратила внимания. А еще эта газетка!

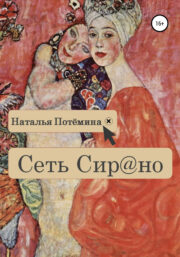
"Сеть Сирано" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сеть Сирано". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сеть Сирано" друзьям в соцсетях.