Тетка так и застыла: рюмка в одной руке, огурец — в другой.
Надька пощелкала у нее перед глазами пальцами:
— Включай мозги-то! Надо же что-то делать.
Скальпель, то есть, логин! Зажим, то есть пароль! Тетка молотила по клавиатуре со скоростью заправского хакера. И буквально через пару минут на экране высветилась Сашкина до слез знакомая физиономия.
Надька не соврала. Годы Епифанова явно пощадили. Как, впрочем, это обычно и бывает, когда дело касается мужчин. Эти гады-годы к ним более милостивы, чем к нам, бабам. Ветерком пройдутся, дождичком прольют, солнышком просушат — и ничего, почти как новенький. А может, даже и лучше. Уверенность появилась, осанистость, лоск. Только вот борода непривычная. И усы. А взгляд все тот же, сладко-обволакивающий.
— Вот он, — всхлипнула Надька, — жених!
— Не реви! — сказала тетка, — разберемся!
— Ты лучше почитай, что он о себе пишет! Писун, блин.
Тетка открыла Епифановское досье и углубилась в чтение.
«Честен, прямолинеен, груб. Активен, агрессивен, вероломен. Нахален, страстен, рьян. Заботлив, нежен, обходителен. Застенчив, печален, угрюм. Циничен, артистичен, приставуч. Послан, брошен, забыт. Свободен, настырен, нагл. И все это в зависимости от направления ветра, времени года и часа суток. Короче, со мной, подружка, не соскучишься. В женщинах ценю чувство юмора и трехзначный, как минимум, „IQ“. Отсутствие последнего легко переживаю и довольствуюсь тем, что есть. Свободно изъясняюсь на трех языках, один из которых „феня“. Легко перехожу от витиевато-образных выражений на короткие междометия и горловое урчание. Остро чувствую фальшь в любых ее проявлениях, не терплю снобизм, пессимизм и трендизм. Пеку блины, жарю картошку, а к мясу, вообще, никого не подпускаю. Люблю кормить, поить и любоваться. В хороших руках отогреваюсь и сам излучаю тепло. И только попробуй мне подмигнуть! На все остальные знаки внимания отвечу с благодарностью».
— Недурно, — удивилась тетка, — кто бы мог подумать.
— Да уж! — согласилась Чигавонина, — раньше он только одним местом хорошо соображал.
Надькино лицо неожиданно скривилось и покраснело. Из глаз полились частые мелкозернистые слезы.
— Не реви! — тетка вынула из кармана платок и протянула Надьке, — хочешь, я тебе его отсюда достану?
Надька хлюпала носом, комкая в руках бесполезный платок.
— Чего молчишь? — не выдержала тетка.
— Да боюсь, я Тань, — Надька расправила на коленях заметно увлажненный платок и, любовно его поглаживая, продолжила, — ты только пойми меня правильно. У меня на Епифанова как бы права… Дочь общая, алименты… А тут еще Витка Чмух, считай, не чужая… И ты, Тань, тоже женщина одинокая, ласки мужской не знавшая. А тут Епифанов — наш старый друг, лучше новых двух…
— Какие новые, Надь? Какие старые? — не выдержала тетка, — когда никаких нет!
— Так тебе, Тань, вроде и не надо было никогда?
— Вроде и не надо, — согласилась тетка и, помолчав, добавила как-то не очень твердо: — Не надо было никогда.
— А что изменилось, Тань? — насторожилась Чигавонина, — не пугай меня. Неужели у тебя кто появился?
— Не знаю, Надя, что тебе и сказать, — растерялась тетка.
До нее именно в этот момент дошло, что все эти учебные бдения в сайтах знакомств, привнесли в ее серую жизнь какую-то свежую, приятно бодрящую струю.
— Представляешь, Надь, я вот только сейчас, буквально сию минуту поняла, что мир — он большой! Мир, Надь, не побоюсь этого слова, он — громадный! И одновременно, он очень маленький и компактный. Даже, я бы сказала, тесный. И буквально под завязку набитый людьми. И эти люди в нем как медведи. Толкаются, дерутся, в лучшем случае трутся друг о друга спинами, а глазами в глаза посмотреть не решаются. А ты спроси, почему, Надь?
Чигавонина молча пожала плечами. Тетка вышла из-за стола и открыла форточку.
— Душно как-то, не находишь? — она выудила из пачки сигарету и снова задумалась.
— Почему, Тань? — подала голос Надька.
— А потому, Надь, что боятся! — оживилась тетка, — потому, Надь, что в стае зверей прямой взгляд — это явная агрессия. Наглая, ничем не прикрытая угроза. И вот мы все бежим от этого кошмара, спасаемся, прячемся в своих заповедных скорлупках, футлярах, панцирях. Мы, Надь, как улитки-скопидомки: зыркнули сердито и в кусты. А мир, Надь, я повторюсь, большой! Он, Надь, ведь для того и предназначен, чтоб люди в него заходили иногда энергию свою поизлучать. Поделиться ею с другими людьми. Ну и получать от них взамен ответные импульсы. Люди, Надь, они ведь, как аккумуляторные батарейки. Им подзарядка нужна. В виде простого человеческого общения. А когда такового не происходит, страшные, Надь, вещи происходят.
Чигавонина сидела на стуле в напряженной позе изваяния с острова Пасхи: спина прямая, руки по швам.
— Вот, возьми, Надь, хотя бы меня, — тетка снова задумалась, — Стою я перед тобой, простая русская баба… И вот скажи ты мне Надя, какие у меня в жизни были простые бабьи радости?
Надька неопределенно дернула плечами, но, уловив привычную волну, облегченно вздохнула:
— Да какие у тебя радости, Тань? Такие же, как и у меня. Девок поднять, с голоду не загнуться, внуков дождаться — вот оно наше общее с тобой счастье. Не было бы, типа, войны…
— Это все, Надь, понятно, а вот так чтобы конкретно, только для себя? Личная жизнь и все такое?
— Да какая, Тань, личная жизнь! — всплеснула руками Чигавонина, — не смеши меня. Пару охранников, пару водителей, Толик участковый и одна случайная связь с врачом-окулистом.
— Нет, Надь, я не про это. Я, Надь, про душу твою спрашиваю. Была ли она у тебя когда-нибудь так сильно задета, чтоб дышать было больно?
— Так ведь Епифанов, Таня! Он и меня, и Витку нашу так злостно задел, что как живые остались непонятно.
— А у меня, Надь, представляешь, — тетка покончила с сигаретой, — ничего такого не было.
— И не будет уже, Тань, слава богу!
— Да я и сама, Надь, понимаю, но почему-то именно теперь сдаваться не хочется. Поманило меня что-то издалека…
Тетка опять задумалась, Чигавонина захрустела огурцом.
— Вот возьми хотя бы этот интернет, — прервала молчанье тетка, — чем он хорош, в смысле познакомиться?
— Выбор большой? — догадалась Надька.
— Даже не это, — тетка взялась за новую сигарету, — понимаешь, там можно спокойно, без боязни, сколь угодно долго смотреть чужому человеку в глаза и тебе за это ничего не будет!
— А без интернета догонят и еще дадут?
— Не знаю, Надь, — вздохнула тетка, — может потому, что работа у меня домашняя, может потому, что я больше с текстами общаюсь, чем с людьми, может, я просто устала сидеть в четырех стенах как замурованная, но я чувствую, я знаю… Что-то сдвинулось с мертвой точки, что-то дрогнуло осторожно и вздохнуло. Что-то ойкнуло и пошло. Что-то такое непонятное, чему я сама пока еще не могу подобрать определения…
— Да, дорогая моя, — покачала головой Чигавонина, — что-то ты действительно заработалась.
— Ну ты же знаешь, я не для себя, я для Олюшки все это затеяла. А она как раз и противится. Не понимает своей выгоды, злится, орет на меня!
— А ты вместо нее! — Чигавонина стукнула кулаком по столу, — хрен кто догадается. А потом доведешь клиента до первого свидания, и поставишь ее перед фактом! Никуда не денется.
— Ладно, до этого еще далеко, — отмахнулась тетка, — а что, кстати, мы с твоим Епифановым делать будем?
Надька резко помрачнела:
— Делай с ним, что хочешь. Мне уже все равно.
— Ну хочешь, я с ним поговорю от лица прекрасной незнакомки, доведу его, как ты предлагаешь, до первого свидания и тебя запущу.
— Не получится у тебя ничего…
— Лучше жалеть о том, что ты сделала, чем о том, чего не сделала.
На этом и порешили.
Тетка проводила Чигавонину до дверей и вернулась на кухню.
Поставила чайник. Раздумала. Включила телевизор и тупо в него уставилась. Менты, в кратких перерывах между распитием, дружно носились за неугомонной ватагой урок.
Хорошо живут, подумала тетка, весело. Даже любовь мало-мальская случается. Отношения… А я тут сижу как дура, завидую. А ведь обходилась как-то раньше? А что теперь изменилось? Вроде бы ничего! Хотя…
Запахло в воздухе порохом, серой, тюльпанами… Почувствовалось нечто свежее, озоновое, грозовое. Замелькали перед глазами стрижи, ласточки, вороны. Закрутились круги цветные, радужные. Неужели это все из-за Сашки? Не думаю. Он лишь катализатор, бумажка лакмусовая, повод веский, но не причина. Что-то здесь другое, скрытое, тайное. Внутри все чешется и свербит. Предчувствие какое? Радость? Беда? Объятья навстречу раскрыть или подложить соломку?
Тетка смотрела на экран, не понимая, что там происходит. Ментов это нисколько не смущало. Парни продолжали рубить бабло, пока горячо.
А у нас ничего не случилось, правда же?
Ничего не случилось. Хотя…
Какое это странное слово — «хотя»! Вроде бы, почти что «хотеть», да не совсем так. «Хотеть» — это слишком неопределенно, сразу возникает вопрос «когда?» А вот «хотя» — это навсегда: и в прошлом, и в настоящем, и будущем. Она ела, хотя. Она пьет, хотя. Она будет трахаться, хотя… Боже мой, да это же счастье. Счастье! Трахаться, пить и есть — хотя! То есть — желая. От всей души, от всего сердца, с нашим вам удовольствием.
И какое несчастье, когда все эти желания вдруг пропадают.
Вот намедни, подумала, хорошо бы что ли, пройтись. Размять усталые затекшие от неподвижности части тела. Но как-то не-хо-тя подумала, без энтузиазма. Или, может, съесть, что-нибудь? Бесполезного, но вкусного: кремово-жирного, сыро-варено-копченного, пряно-сладко-острого? И снова как-то вяло подумала, скучно, лениво. Или кино посмотреть? С любовью, страстями, красивыми эротическими сценами? Ну? Возжелай! Не-о-хо-та, блин! Так неохота, что челюсти сводит.

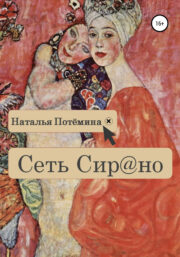
"Сеть Сирано" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сеть Сирано". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сеть Сирано" друзьям в соцсетях.