Он, дрожа, раздевается. Вы, конечно, заметили, сколь прекрасно его тело, на котором нет ни одного лишнего волоска, как стройна его спина, как украшены длинными коричневыми мускулами его икры, как длинны его пальцы. Но его тело не для нее. Он укоризненно натягивает пижаму. Она стоит в чулках.
— Почему ты всегда так со мной поступаешь? Почему ты заставляешь меня чувствовать себя такой одинокой?
— Спроси саму себя.
— Что ты хочешь этим сказать. Сегодня Сочельник, и мне так хотелось быть счастливой. Почему ты отворачиваешься от меня? Что я сделала?
Тишина.
— Что я сделала?
Он взглянул на нее так, будто она оскорбила его.
— Слушай, давай лучше спать. Забудем обо всем этом.
— Забудем о чем?
Он не ответил.
— Забудем о том, что ты отворачиваешься от меня? Забудем о том, что ты наказываешь меня ни за что? Забудем о том, что мне холодно и одиноко, что сегодня Сочельник, а ты снова изгадил его для меня? Что же я должна забыть?
— Я не хочу это обсуждать.
— Что обсуждать? Что же ты не хочешь обсуждать?
— Заткнись! Я не хочу, чтобы у тебя случилась истерика в отеле.
— Черт подери, вот до этого ты меня не доведешь. Мне хочется вежливого обращения. Я хочу, чтобы ты по крайней мере сделал любезность и рассказал, почему ты такой трус. И не смотри так на меня…
— Как?
— Неужели то, что я не умею читать твои мысли — мой величайший грех. Я не могу читать твои мысли. Я не понимаю, почему ты такой псих. Я не угадываю твои желания. Если тебе нужно это от жены, то на меня не рассчитывай.
— Конечно же, нет.
— Тогда что? Скажи мне, пожалуйста.
— Не собираюсь этого делать.
— Боже ж мой! Ты собираешься сказать, что тебе нужен экстрасенс для чтения мыслей? Или тебе не хватает материнской заботы?
— Если бы ты хоть немного почувствовала меня…
— Но я же пытаюсь это сделать. Господи, ты же не даешь мне ни единого шанса.
— Ты все ставишь с ног на голову. И не слушаешь.
— Это было в каком-то фильме, правда?
— Что, в фильме?
— Еще одна проверка. Ты проверял меня, как какого-нибудь уголовника. Ты уже устроил мне всестороннее испытание?.. Это была погребальная сцена… Маленький мальчик, смотрящий на свою мертвую мать. Тебя что-то с этим связывает. С того момента ты и получил депрессию?
Молчание.
— Ну, правда?
Молчание.
— Ну же, Беннет, ты приводишь меня в бешенство. Пожалуйста, скажи мне. Пожалуйста.
(Он выдавливал из себя слова. Каждое слово было маленьким подарком).
— Это в какой сцене я участвовал?
— Не устраивай мне проверку! Рассказывай! (Она попыталась обнять его. Он оттолкнул ее. Она упала на пол, цепляясь за его обтянутую пижамой ногу. Это было больше похоже на просьбу о помощи, чем на объятие, она опускается, он пытается не позволить ей опираться на свою ногу).
— Вставай!
(Плача): — Если только ты скажешь мне.
(Он резко выдергивает свою ногу): — Я ложусь в постель. (Она прижимается лицом к холодному полу): — Беннет, пожалуйста, не делай этого, поговори со мной.
— Я слишком сумасшедший.
— Пожалуйста.
— Я не могу.
— Пожалуйста.
— Чем больше ты меня умоляешь, тем холодней я себя чувствую.
— Пожалуйста.
Они лежат, раздумывая, на кровати. Валик с ее стороны влажный. Она вздыхает и всхлипывает. Он, кажется, не слышит. Как только они оказались рядом в центре кровати, он отодвинулся. Это повторяется еще раз. В середине кровати углубление, как у бревенчатого каноэ.
Ей нравится тепло и тяжесть его спины. Она хотела бы обнять его. Она хотела бы забыть всю сцену, словно этого никогда не было. Когда они занимаются любовью, они вместе хоть на некоторое время. Но он не хочет. Он вынимает ее руку из выреза своей пижамы и отталкивает ее. Она откатывается. Он придвигается ближе к наружному краю.
— Это не решение, — говорит он.
Они вслушиваются в шум дождя. Снаружи, на улице, раздаются отдельные выкрики пьяных студентов, разбредающихся по домам. Сырые бордюры. Париж может быть таким сырым. После фильма сегодня вечером они направлялись в Нотр-Дам. Они были стиснуты со всех сторон пальто из верблюжьей и овечьей шерсти. Полуночная служба. Зонтики упираются между носков их туфель. Он не могли двинуться ни вперед, ни назад. В толпе людей, запрудивших здание, двигаться невозможно. Paix dans le monde[37]! — произнес высокий, усиленный электроникой голос. Нет ничего хуже запаха мокрой шерсти.
Он жил на Вашингтон Хайтс. Его отец умер. Он ничего не чувствует. Это, должно быть, забавно, что он ничего не чувствует. Когда люди умирают, они не ожидают, что никто ничего не почувствует.
Я же говорил тебе, что ничего не почувствовал, но ты все равно спрашиваешь. Потому что я знаю тебя. Ты никогда никого не теряла. У тебя никогда никто не умирал. Поэтому ты ненавидишь меня? Мы же облегчали друг другу жизнь. Это было в Централ-Парке. Была ли это моя ошибка? Ты знаешь Китайский погребальный дом на Пилл-Стрит? Когда люди умирают, они возвращаются к себе на родину. Даже в смерти они расисты. Он никогда не верил в Бога. Он никогда не ходил в церковь. Они читали молитвы на китайском. И я думал: Господи Боже, я не понимаю ни слова. Гроб стоял открытым. Это важно. Иначе трудно поверить в смерть. Психологическая уловка. Выглядит это отвратительно. Потом пришли родственники и забрали остаток денег. Бизнесом проживешь, сказали они, но и бизнес приказал долго жить. Я был студентом младшего курса в высшей школе. В социальной службе, выдававшей пособие, мне сказали, что я смогу работать лишь после получения диплома. Но я думал: быть мне официантом. Но я не могу быть официантом даже в китайском ресторане, потому что не знаю по-китайски ни слова. Я тогда был безвольным орудием, бедным нытиком. Но я должен был учиться в колледже. В то время ты гуляла по Централ-Парку. И ездила на уик-энды в Кэмбридже. А я кормил крыс в лаборатории медицинской школы. Всю Рождественскую ночь. Никого нет. А я кормлю проклятых крыс.
Она лежала рядом с ним очень тихо. Она потрогала себя, чтоб убедиться, что еще жива. Ей вспомнились первые две недели со сломанной ногой. Она тогда постоянно мастурбировала, чтобы доказать себе, что на свете существует еще что-то, кроме боли. Тогда боль была всем. Она жила в клетке из боли.
Ее руки поползли по животу вниз. Ее левый указательный палец коснулся клитора, а правый вошел внутрь, имитируя пенис. Что чувствует пенис, когда он окружен такой мягкой, сжимающейся плотью? Ее палец слишком маленький. Она добавила еще один и растопырила их. Но ногти слишком длинные. Они царапаются.
А если он проснется?
Может быть она хочет, чтобы он проснулся и увидел, насколько она одинока.
Одинока, одинока, одинока. Она двигала пальцами в таком ритме, и ей казалось, что оба внутренних кремовые, а тот, который на клиторе, стал твердым и красным. Можно ли ощущать цвет кончиков пальцев? На что похоже ощущение красного? Внутренние полости чувствуются красными. Пурпурными. Как будто бы там течет голубая кровь.
— О чем фы думаете, когда мастурбируете? — интересовался ее немецкий психоаналитик. — О чем фы думаете? — Я мыслю, следовательно существую.
Она не думает ни о ком конкретно, и в то же время о каждом. Об этом психоаналитике и о своем отце. О, нет, не об отце. Она не может думать об отце. О мужчине в поезде. О мужчине под кроватью. О мужчине без лица. С совершенно пустым лицом. У него один глаз на пенисе. И иногда он слезится.
Она почувствовала сильные конвульсии оргазма под пальцами. Ее руки успокоились, и она провалилась в глубокий сон.
Ей снится, что она гуляет по дому, в котором выросла — но дом этот переделан архитекторами из сна. Коридор, ведущий к спальне, в которой лишь три стены, извивается как русло старой реки, а кухонная кладовая — это открытый всем ветрам туннель со встроенными шкафами, но они так высоко, что их и не достать. Трубы украшены лепниной, как средневековые супницы, а из-под плинтусов дует легкий ветерок. В ее спальне, в замерзшем стекле двери отражается множество людей с искаженными болью лицами, поверяющих свои горести лунному диску. Тонкий и длинный лунный луч пробирается по полу, оставляя за собой серебряные следы, а затем разбивается с хрустальным звоном. Лица в двери превращаются в волчьи. Кровь капает у них с уголков рта.
В девичьей ванной комнате стоит огромная лохань на звериных лапах; она такая большая, что ребенок легко может в ней утонуть. Четыре медных светильника свисают с потолка комнаты. Они саженной высоты и украшены листочками тусклого золота. Ниже жилой комнаты есть балкон с винтовыми столбиками, стоящими полукругом; их ширина не даст ребенку пролезть между ними и полетать в воздухе. Можно спуститься ниже — и ты оказываешься в студии, где пахнет скипидаром. Потолок напоминает ведьмину шапку. Посредине на черной цепи свисает железная люстра. Она тихонько качается на ветру, дующем из северного трапециевидного окна в южное.
Пластмассовая посмертная маска Бетховена висит на стене. Величественные веки композитора плотно сжаты. Она забирается на стул и проводит по маске пальцами. Черные полоски сажи на пластике. Вот она и оставила свои отпечатки пальцев на глазах Бетховена. Вскоре случится нечто ужасное.
На столе стоит череп. И подсвечник рядом. Это, видимо, натюрморт — их рисует ее дед. Где же сама картина?
На мольберте незаконченный натюрморт с изображением подсвечника и черепа. Что более неподвижно? Череп? Или натюрморт с его изображением? Чья неподвижность продлится дольше?
В углу комнаты чулан. Там висит зеленый армейский китель ее мужа, пустой. Рукава хлопают на ветру. Может быть, он умер? Она очень испугана. Она выбежала через дверь студии и помчалась по ступенькам. Почти сразу она упала, сознавая при этом, что удар о землю означает смерть. Она попыталась закричать — и проснулась. Она очень удивилась, обнаружив себя в Париже, а не в родительском доме. Он лежал рядом, напоминая мертвого. Она разглядывала его спящее лицо, длинный рот с опущенными уголками, тонкие брови — как будто нарисованные китайским каллиграфом, и думала о том, что к следующему Рождеству они либо не будут жить вместе, либо заведут ребенка, вовсе не похожего на нее.

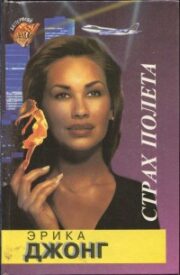
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.