Мы вместе встали под душ и принялись плескаться, как дети. Потом поочередно намыливали друг друга. Надо сказать, что я была шокирована собственной неразборчивостью, позволяющей мне переходить от одного мужчины к другому и оставаться при этом одинаково пылкой и возбужденной. Я не сомневалась, что позже мне придется заплатить за это чувством вины и отвращения к себе, которое, как известно мне одной, несомненно придет после такого разгула страстей. Но сейчас я счастлива. Наконец-то меня оценили по достоинству! А может быть именно два мужчины дополняют друг друга, сливаясь в совершенной личности?
Одним из наиболее запомнившихся событий конгресса было посещение венского Ратхауса. И запомнилось оно потому, что представляло великолепную возможность наблюдать оптом и в розницу более 2000 психоаналитиков, красующихся, как глухари на току и весьма истосковавшихся за годичный перерыв друг по другу и по обширной аудитории. Выдался случай понаблюдать за солидными и степенными пожилыми психоаналитиками, творящими чудеса — или, по крайней мере думающих, что это им удается. Еще одним ярким впечатлением этого Конгресса, врезавшимся в мою память, был тот исступленный вечер, когда я неслась в вальсе через бесконечную анфиладу комнат, в полыхающем пурпуром и блестками вечернем платье (кстати, золотые блестки дождем сыпались на пол), переходила из одной залы в другую, танцевала попеременно то с Адрианом, то с Беннетом и совершенно забылась. В тот вечер чувство реальности покинуло меня.
Откормленная свинка в чине леди-мэри Вены воздавала почести herzlichе Glusse Анне Фрейд и другим психоаналитикам и вешала на уши обычное немецкое дерьмо по поводу того, что Вена рада их видеть снова. И ни слова, конечно, о том, как они бежали из Вены в 1938. Тогда для них не было ни духового оркестра, игравшего «Дунайские волны», с ними не заигрывали herzlichen Glussen и не предлагали дармовой шнапс.
Когда подали закуску, созвездия психоаналитиков, облаченных в строгие представительские костюмы, как шмели, переговаривались через стол.
— Скорей — они прорываются на переднюю линию! — заголосила внушительная матрона, убийственно благоухающая резедой, затертая между Скарсдейл и Новой Школой.
— А они уже подали пирог в соседнюю комнату, — довели до всеобщего сведения двести фунтов женской красоты, облаченные в канареечно-желтый атласный костюм и потрясавшие серьгами с подвесками в полтора пальца длиной.
— Да не толкайтесь же! — кричал выдающийся (а, возможно, и вырождающийся) престарелый психоаналитик, в старомодном смокинге и клетчатом жилете. Он барахтался между дамой, устремившейся к индюшачьей ножке, и мужчиной, тянувшимся к суфле из крабов. Все сновали вокруг стола, выхватывая самое вкусное; эта часть вечера запечатлелась у меня в виде бесчисленных длинных рук, подцепляющих лакомые кусочки с серебряных подносов.
После этой забавной потасовки злонамеренные распорядители вечера подали знак, и с балкона грянула музыка. Ну что ж, зал ратуши вполне отвечал духу и характеру этой основательной и помпезной затеи. Псевдоготические арки освещались тысячами псевдосвечей и несколько подсадных пар закружились на паркете в венском вальсе. Ах, путешествие, приключения, романтика! Я излучала здоровье и удовлетворение, как всякая женщина, опьяненная тем, что ее любили четыре раза за день два разных мужчины, но, несмотря на это, меня терзали противоречия! Я их не осознавала, но чувствовала.
Время от времени я задумывалась, почему бы мне не воспользоваться наслаждениями, которые судьба посылает в краткий миг моей жизни в этом мире? Может, такое никогда не повторится. И почему бы мне не почувствовать себя счастливой и не побыть немножко гедонисткой? Что в этом плохого? Я знала, что женщина, принадлежащая всю жизнь одному мужчине (и подходящая к тому возрасту, когда и мужчины и счастливый случай теряют к ней интерес) всегда требует от жизни того, что недополучила в молодости; знала, что верными и добродетельными женами восхищаются на словах, а на деле они быстро надоедают, и их не ценят, потому что мужчине нужна борьба, ему нужно почувствовать, что у него есть соперник; а стоит женщине повести себя так, словно она бесценна и желанна, мужчина сразу воспринимает ее как бесценную и желанную. Словом, если ты отказываешься служить ковриком у дверей, то никому и в голову не придет вытирать о тебя ноги. Я знала, что нравы изменились и что здравомыслящие женщины нашли бы мои колебания глупыми. Женщина, которая ведет себя как королева, становится ею рано или поздно. Да, но наступит время, когда мое приподнятое настроение пройдет, его сменит уныние и отчаяние; когда я потеряю обоих мужчин и останусь в одиночестве, и я буду больше сожалеть о Беннете, чей уход вызван моей несправедливостью и пренебрежением. Вот тогда-то я буду презирать себя за все содеянное? Я была готова бежать к Беннету, пасть к его ногам и просить прощения, пообещать немедленно родить ему двенадцать детей (чтоб хоть чем-то занять свое окаянное лоно), поклясться, что буду служить ему, как рабыня, и все это — взамен на любое обещание, гарантирующее безопасность. Я бы сделалась нежной, предупредительной, сладкой, как вишневое варенье: одним словом, пустила бы в ход весь набор обольстительного лицемерия, которым владеет каждая женщина, весь набор ухищрений, которые считаются проявлением истинной женственности.
Но дело в том, что мои благие намерения ни к чему бы не привели, и я это знала. Ни подавлять, ни быть подавляемой. Ни свинства, ни похотливости, ни услужливости… И то и другое — тупик. Все это ведет в никуда. Или к одиночеству, как бы вы ни старались этого избежать. Тогда что же мне остается? Только ненавидеть себя больше, чем я себя ненавижу. Тоже безнадежно.
Я поискала глазами лицо Адриана. Мне нужно было увидеть даже не собственно его лицо, а лицо, приносящее мне радость. Все остальные лица казались мне ожиревшими и омерзительными; просто гротескными, ни дать ни взять — персонажи Брейгеля-старшего. Кажется, Беннет прекрасно понимал, что происходит, да впрочем, это было очевидно.
— Ты ведешь себя точно так же, как в «Прошлом году в Мариенбаде», — сказал он. — Это уже случилось, или еще нет? И только ее аналитик может сказать наверняка.
Он-то считает, что Адриан «всего-навсего» играет роль отца, так что это всего лишь подмена, сублимированный образ. «Всего-навсего»! Короче говоря, я попросту обыгрываю Эдипов комплекс, так же, как «перенесение нереализованных желаний» на моего немецкого аналитика, доктора Харпе, не говоря уже о докторе Кельнере, с которым я только что рассталась. Это Беннет мог понять. Пока это Эдипов комплекс, но не любовь. Пока это сублимация и перенесение, но не любовь.
С Адрианом дело обстояло куда хуже.
С ним мы встретились под сводами готической арки. От также был полон идей и интерпретировал все по-своему.
— Ты продолжаешь метаться между нами двоими, — сказал он. — Просто понять не могу, кто из нас мамочка, а кто папочка?
Внезапно меня осенила безумная идея собрать вещички и сбежать от них обоих — это избавит меня от необходимости выбора… И принадлежать самой себе. И прекратить эти метания от одного мужчины к другому. Наконец-то стать самостоятельной. А почему это меня пугает? Ведь другие варианты еще хуже, правда? Широкое поле для фрейдовских интерпретаций или для лаингианских изысканий! Ого, какой выбор! Я могу собрать свои силы и дать выход неиспользованной энергии в религиозном фанатизме, научной работе, да хоть в марксизме, наконец. Что и говорить, сублимация желаний — штука что надо! Да любая система становится гротеском, если придерживаться всех ее постулатов и воспринимать буквально каждое слово. А чувство юмора не помешает, если хотите сделать здравые выводы из любой теории. И вообще не доверяю теоретическим выкладкам и обобщениям. Ведь нет двух одинаковых людей, значит все относительно; и непреложных фактов очень мало. Ведь окружающее так противоречиво и строится на парадоксах. Почему я этому верю? Только из чувства юмора. Смеюсь над теориями, людьми… над собой, кстати говоря, тоже. Смеюсь даже над чьей-нибудь потребностью смеяться не переставая. А нельзя не смеяться, видя эту жизнь, полную противоречий, жизнь, столь многогранную, обоюдоострую, разноречивую, забавную, трагическую, а иногда и незабываемо прекрасную. Жизнь подобна фруктовому пирогу с вкусными сливами и противными косточками, из чего следует, что надо есть пирог и выплевывать косточки, но, когда ты слишком голоден, ты рано или поздно подавишься косточкой. (Кое-что из этого я выдала Адриану).
— Жизнь как фруктовый пирог! Ты ужасно чувственна, и все воспринимаешь на вкус, правда? — сказал Адриан, скорее утверждая, чем спрашивая.
— Это что-то новое — а что ты собираешься предпринять?
Он влажно поцеловал меня, и это было еще одной вкусной сливой во фруктовом пироге жизни.
— Как долго ты еще собираешься изводить меня? — спросил Беннет, когда мы вернулись в гостиницу. — Я не собираюсь мириться с этим.
— Извини, — сказала я. Звучало довольно неубедительно.
— Я считаю; что мы должны сейчас же уехать отсюда; мы вернемся следующим же самолетом в Нью-Йорк. Мы не можем больше жить в этой суете и неопределенности. Сейчас ты просто не в своем уме. Я увезу тебя домой.
Я чуть было не расплакалась. Мне хотелось домой, и, в то же время, я никуда не желала уезжать.
— Ну пожалуйста, Беннет, пожалуйста, пожалуйста.
— Что пожалуйста? — огрызнулся он.
— Не знаю.
— Ты даже не можешь набраться смелости и уйти к нему. Если ты влюблена в него — так почему же ты не порвешь со мной, и не уедешь в Лондон, и не познакомишься с его детьми. Но ведь ты даже не собираешься это делать. Ты сама не знаешь, чего ты хочешь. — Он помолчал. — Мы должны вернуться домой прямо сейчас.
— А что толку? Тебе больше не удастся завладеть мною, снова загнать меня в клетку. Я ее разрушила. Так что это безнадежно, — мне казалось, что я на самом деле так думаю.

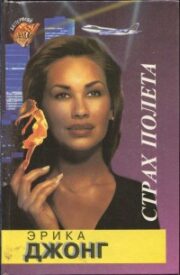
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.