Адриан молча высадил нас у отеля, и его «триумф», урча, скрылся. Мы поднялись наверх, чтобы смыть с себя грехи прошедшей ночи. Беннет не планировал в тот день никаких встреч, поэтому мы решили прогуляться к дому Фрейда. Мы задумали этот поход еще до того, как в поле зрения возник Адриан, но как-то засуетились и забыли.
Вена в то утро была прекрасна. Еще не было жарко, солнце светило вовсю, и небо было голубым, а улицы наполнились людьми, которые с деловым видом спешили на службу, сжимая в руках кейсы (а в кейсах, скорее всего, не было ничего относящегося к делу, только газеты и бутерброды). Мы прогулялись по Фольксгартену, восхищаясь аккуратными кустами роз, напоминающими о безмятежной юности. Мы отметили, что в Нью-Йорке эти клумбы обязательно были бы осквернены. Мы смаковали друг перед другом тему нью-йоркского вандализма в противовес законопослушной добродетельности немецких городов. Потом, как водится, обсудили проблему противоречия между цивилизацией и регуляцией, импульсами и поведением. На короткое время между нами воцарилось уютное согласие, которое Адриан называл «скукой супружества». Он ошибался. Будучи одиноким волком, он не находил удовольствия в партнерстве, а брак воспринимал только как занудство и скуку. Чего ему не хватало, так это особого «парного» инстинкта, заставляющего двух людей заключать союз, заполняя тем самым бреши в своих душах и обретая ощущение силы. Союз двоих не обязательно основывается на сексе: он может возникнуть и между двумя подругами, снимающими угол, и между старыми гомосексуалистами, живущими одной семьей и много лет не трахающимися друг с другом. Случаются такие союзы и в обычных браках. Двое поддерживают друг друга, как контрфорсы. Двое зависят друг от друга, балуют друг друга и оберегают друг друга от внешнего мира. Иногда это стоит всех недостатков брака — обрести единственного друга посреди равнодушного мира.
Мы с Беннетом взялись за руки и пошли к дому Фрейда. Мы будто бы заключили молчаливое соглашение не упоминать о прошедшей ночи. Эта ночь как бы приснилась нам, а сейчас мы снова были вместе, при свете дня, и сон этот исчез, растаял, как утренний туман.
Мы поднялись по лестнице в кабинет, где Фрейд давал консультации, мы были похожи на двух пациентов, пришедших на сеанс супружеской терапии.
Я всегда придавала большое значение святыням культуры. Дом в Риме, где жил Китс, его же дом в Хэмпстеде, дом, где родился Моцарт, грот Александра Попа, дом в амстердамском гетто, где жил Рембрандт, вилла Вагнера на озере в Люцерне, две комнатенки в венской квартире, где ютился Бетховен… Как бы ни выглядело то место, в котором родился, жил, работал, ел, портил воздух и изливал свое семя какой-нибудь гений, — в моих глазах оно было святилищем. Как Дельфы или Парфенон. Пожалуй, даже больше, потому что чудо повседневной жизни величайших столпов культуры состоит в том, что, живя в двух обшарпанных комнатках, Бетховен мог написать такую музыку, — вот это настоящее чудо. Я с благоговением взирала на все эти невыразительные предметы, и чем невыразительнее они были, тем лучше: его выцветшая солонка, его потрепанная книга расходов. Сама по себе заурядность его быта дарила мне ощущение спокойствия и счастья. Я часами, как бладхаунд, принюхивалась в надежде уловить запах гения. Где-то между приемом ванны и посещением спальни, между поеданием яйца и сидением в отхожем месте, к гению является муза. Она не придет к нему там, где ее ожидают увидеть ваши испорченные Голливудом мозги: ни на сногсшибательном солнечном закате над Ахеей, ни на гребне волны, когда вы балансируете на серфинге где-нибудь в Биг-Сюре, ни на вершине Дельфийского холма (как раз между пупом земли и тем местом, где Эдип убил своего папашу), — нет, муза является тогда, когда ты режешь лук или ешь баклажаны, или выстилаешь мусорную корзинку страничкой с книжным обозрением из «Нью-Йорк Таймс». Лучшие из современных писателей это знают хорошо. Леопольд Блум пожарит почки, сходит по большому — и начинает постигать Вселенную. Понж находит душу человека в устрице (как Блейк находил ее в чашечке полевого цветка). Плат, поранив палец, делает великое открытие. А Голливуд пичкает нас образом художника, похожего на идола, с мечтательными глазами и бантом на шее, творящего на фоне музыки Дмитрия Темкина и оранжевого заката — и в какой-то степени все мы (даже те из нас, кому отлично известно, как обстоят дела на самом деле), стараемся подстроиться под этот образ.
Меня все еще, честно говоря, подмывало снова залезть в постель к Адриану. А Беннет, почувствовав это, потащил меня в дом Фрейда, на Бергассе, 19, чтобы попытаться (в очередной раз) привести меня в чувство.
Я согласна с Беннетом в том, что Фрейд был гением интуитивного склада, но не согласна с бытующим среди психоаналитиков убеждением в его непогрешимости: гении все же должны совершать ошибки, иначе они были бы богами. А скажите на милость, кому нужно совершенство? Или последовательность? Когда выходишь из подросткового возраста, когда вырастаешь из Германа Гессе, Калиля Гилбрена и веря в трансцендентальное зло, заключенное в твоих родителях, ты уже не должен хотеть постоянства. Но, увы, многие из нас продолжают желать этого. И готовы разбить тебе жизнь, только бы добиться этого постоянства и логики. Так поступаю и я.
Итак, мы бродили по дому Фрейда, надеясь сделать какое-нибудь открытие. Думаю, мы ожидали встретить кого-то вроде Монтгомери Клифта, переодетого Фрейдом, с бородой, как у Фрейда, исследующего глубины собственного гнилого подсознания. То, что мы увидели на самом деле, разочаровало нас. Большую часть мебели перевезли в Хэмпстед, и теперь она принадлежит дочери Фрейда. Венскому музею Фрейда приходится иметь дело с фотографиями и огромными пустыми комнатами. Фрейд прожил здесь почти полвека, но в память о нем не осталось даже запаха — только фотографии и комната для ожидающих, реконструированная при помощи полуразвалившейся мебели того времени.
Вот фотография его знаменитого кабинета, с покрытой восточным ковром кушеткой для пациентов, с египетскими и китайскими фигурками, с фрагментами древней скульптуры… но самого этого кабинета уже не существует, он исчез, как исчезла целя эпоха в 1938 году. Как все-таки странно делать вид, что Фрейд и не уезжал отсюда и что с помощью нескольких пожелтевших от времени фотографий можно заново создать целый мир. Это напомнило мне мою поездку в Дахау: на месте крематория зеленеет трава, и кудлатые немецкие дети бегают, смеются, устраивают пикники. «Вы не можете осуждать целую страну за двенадцать лет ее истории», — говорили мне в Гейдельберге.
Так что мы осматривали странные, однообразные комнаты, остатки личного имущества Фрейда, его медицинский диплом, его военный билет, его ходатайство о присвоении профессорского звания, его контракт с каким-то издателем, список его публикаций, приложенный к ходатайству о повышении в должности. Потом мы ознакомились с фотографиями: Фрейд с сигарой в руке, Фрейд с внуком, Фрейд с Анной Фрейд, Фрейд в Лондоне незадолго до смерти, опирающийся на плечо жены, молодой Эрнст Джонс с поразительным по красоте юным лицом, Шандор Ференчи, надменно взирающий на мир (фото примерно 1913 года), Карл Арахам, славившийся мягким обхождением и выглядящий соответственно, Ханс Саш, похожий на Роберта Морли, und so weiter[44].
Мы послушно переходили от одного стенда к другому, обдумывая при этом нашу собственную дурацкую историю, которая еще находилась на стадии написания.
Мы неторопливо позавтракали вместе, снова и снова пытаясь убрать разрушения предыдущего вечера. Я давала себе слово, что никогда больше не увижу Адриана. Мы с Беннетом обращались друг с другом со всей возможной предупредительностью. Мы соблюдали осторожность и не касались тем, имеющих отношение к случившемуся. Вместо этого мы рассказывали друг другу всякие истории про Фрейда. Эрнст Джонс писал, что Фрейд совершенно не способен был понять характер человека, он был плохой Menschenkenner[45]. Эта черта — некоторая наивность в восприятии людей — часто сопровождает истинного гения. Фрейд обладал способностью проникать в тайны снов и одновременно обманываться по поводу обычного заурядного человека. Он мог изобрести психоанализ, но продолжал упрямо верить в людей, которые его предавали. К тому же он был крайне неосмотрителен. Он часто разбалтывал чужие секреты, доверенные ему, беря при этом слово молчать с тех, кому он их передавал.
Неожиданно мы поняли, что опять говорим о себе. В тот день не существовало нейтральных тем для разговора. Все замыкалось на нас.
После завтрака мы снова пошли в Хофбург послушать доклад по психологии художников. В докладе посмертно подверглись анализу Леонардо, Бетховен, Кольридж, Вордсворт, Шекспир, Донн, Вирджиния Вулф и неизвестная, не названная по имени женщина-художник, исследованная психоаналитиком. Все его доводы убедительно доказывали, что художники, как тип — слабы, зависимы, инфантильны, наивны, склонны к мазохизму, нарциссизму, не разбираются в людях и безнадежно погрязли в Эдиповом комплексе. В детстве они крайне чувствительны и нуждаются при этом, более чем остальные, в материнской заботе, постоянно ощущают себя обделенными, как бы их ни опекали в действительности. Во взрослой жизни они обречены повсюду искать матерей и, не найдя их (нигде, нигде), пытаются изобрести идеальных матерей, выдумывая их в своей работе. Они стараются превратить реальную историю своей жизни в идеализированный образ — пусть даже эта идеализация выглядит в итоге брутализацией. Короче говоря, отсутствие семьи — такое же трансцендентальное зло, как и современный романист-автобиограф, воображающий, какой могла бы быть его семья. В пух и прах разнести чье-нибудь семейство — все равно что идеализировать его. Это доказывает, как сильно человек связан со своей семьей.
И жажда славы у художника также связана с желанием вознаградить себя за ощущение обделенности в детстве. Но ничего у них не выходит. Любовь всего мира не заменит любви одного человека, который любит тебя, когда ты еще ребенок, кроме того, весь мир не способен любить. Так что слава приносит разочарование. Многие художники от отчаяния обращаются к опиуму, алкоголю, к гомосексуальному разврату, гетеросексуальному разврату, религиозному фанатизму, политическому морализаторству, самоубийству и другим паллиативам. Но и это не помогает. Кроме, правда, суицида — это средство проверенное. В связи с этим я вспомнила эпиграмму Антонио Порчиа, которую психоаналитик процитировать не догадался:

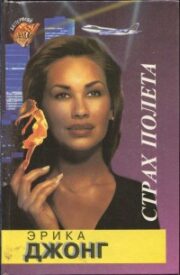
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.