Нам довелось познакомиться с французскими стоянками для грузовиков, с итальянскими автоматами «эспрессо», готовящими исключительно крепкий кофе. Нам довелось познакомиться с прелестями эльзасского пива и ящиками груш, купленных на придорожных фермах. Мы поняли, что пересекли границу Франции, когда фары машин замигали горчично-желтым вместо белого цвета и хлеб стал вкуснее.
Нам довелось познакомиться с самой уродливой частью Франции, у границы с Германией, где дороги совершенно разбиты снующими туда и обратно кавалькадами машин, а французы отказываются их ремонтировать, ссылаясь на то, что немцы и так доберутся до Парижа, и чем медленнее, тем лучше.
Нам довелось познакомиться с бесчисленными дешевыми постоялыми дворами с тусклыми лампочками и усиженными мухами биде (в которые мы писали, потому что брезговали входить в тесный заплеванный туалет в холле, где свет зажигался только ценой ободранных ногтей).
Нам довелось познакомиться с еще более шикарным типом кемпинга с сортиром на улице и баром с музыкальным автоматом, оравшим песни «Битлз». Но чаще всего (а это был август, и все бюргеры Европы, словно сговорившись, бросились в автопутешествия со своими двумя с половиной детьми — как утверждает статистика) самые приличные кемпинги оказывались переполненными, и нам приходилось ставить палатку у дороги (и бегать облегчаться в кусты, где колючая трава щекотала задницу, а слепни, жужжащие в опасной близости от заднего прохода, норовили тут же облепить свежие какашки).
Нам довелось познакомиться с «Аутострада дель Соле», с ее фантасмагорическими грилями «павезе» и видами, достойными Феллини: леденцы в красочных обертках, горы игрушек, бочонки «пантеоне», обвязанные бантиками, баночки с джемом и коробочки с карамелями.
Нам довелось познакомиться с итальянскими сумасшедшими, гонявшими со скоростью девяносто миль в час на своих фиатах «чинточенто» и останавливавшимися всякий раз при виде статуи Христа у дороги, чтобы осенить себя крестным знамением и бросить пару лир в коробку для пожертвований.
Нам довелось познакомиться с дюжиной аэропортов и аэропортиков в Германии, Франции и Италии. Дело в том, что иногда, когда кончался второй ящик пива и подымала свою уродливую голову моя всепоглощающая депрессия (вкупе со вторичными симптомами в виде головной боли и утомления), я впадала в панику и требовала, чтобы Адриан отвез меня в ближайший аэропорт. Он никогда не говорил «нет». Он только замолкал и начинал вести себя так, как будто бы я его сильно разочаровала. Но никогда он напрямую не перечил моим желаниям. Мы мчались в ближайший «флюгхафен» или «аэропорто», по дороге умудрялись заблудиться, по пятьсот раз спрашивал, как туда проехать. Когда мы попадали в нужное место, обязательно выяснялось, что следующий самолет будет не раньше, чем через два дня, или что на него нет билетов[47], или что он улетел две минуты назад. А потом мы шли в бар, брали еще пива, и Адриан целовал меня, и шутил со мной, и сладострастно хватал меня за задницу, и говорил о нашем безумном приключении. И мы снова возвращались в машину в преотличном настроении. В конце концов, я не совсем была уверена, что мне есть куда еще отправиться.
Наше путешествие едва ли было приятной увеселительной прогулкой. И когда мы петляли, и кружили, и блуждали, это происходило из-за того, что наш маршрут определялся не дорожными знаками или завлекательными трехзвездочными отелями, а головокружительной сменой настроений — моих и — в меньшей степени — Адриана. Мы перескакивали от депрессии к депрессии, петляя вокруг пьяных пикников. Наш маршрут не подчинялся никаким законам географии, но это я поняла некоторое время спустя, когда записывала название тех мест, которые мы посетили. Мы заехали в Зальцбург и пробыли там достаточно долго, так что успели посетить моцартовский Gebrutshaus, объесться Leberknodel и всласть выспаться. А потом мы двинулись в Мюнхен. Мы скитались на всем пространстве от Мюнхена до Альп, заезжая в разные замки, воздвигнутые королем Людвигом Баварским Безумным, карабкаясь по горному серпантину в Шлосс Неушванстайн, штурмуя замок вместе с армадой картофелеподобных домохозяек в ортопедической обуви, работавших локтями позади нас и производящих цокающие звуки посредством своих медоточивых уст, высовывавших нам вслед язык в неистовой гордости за свое славное национальное наследие в виде Вагнера, Фольксвагена и свиных окороков.
Я помню окрестности Неушванстайна с почти кошмарной ясностью: Альпы, словно сошедшие с открытки, облака, зацепившиеся за зубцы гор, ревматические пальцы древних снежных изваяний, безмолвные рога пиков, упирающиеся в голубое небо с плывущими по нему облаками, бархатистые зеленые долины (по которым катаются зимой начинающие лыжники) и коричневые крыши замков, и белые домики, похожие на игрушки, разбросанные ребенком.
Самый знаменитый немецкий замок находится вовсе не в Швецингене или Шпейере, не в Гейдельберге или Гамбурге, не в Баден-Бадене или Ротенбурге, не в Берхтесгадене или Берлине, не в Байрау или Бамберге, не в Карлсруэ или Кранихштейне, не в Эллигеле или Эльце, — а в Диснейленде, штат Калифорния. Забавно, насколько похожи в душе были Уолт Дисней и король Людвиг Баварский Безумный. Людвигов Неушавнстайн — это созданная в XIX веке имитация средневековой постройки, которая на деле никогда не существовала. Диснеевский замок — это имитация этой имитации.
Я была в некотором роде зачарована Людвиговым оштукатуренным гротом с центральным отоплением, проведенным между спальней и кабинетом, его оштукатуренными сталактитами и сталагмитами, освещенными зеленоватыми неоновыми светильниками, надгробием Зигфрида и Тангейзера с изображениями жирных белобрысых богинь с грудями гладкими, как эпоксидная смола, и воинов с белобрысыми бородами, пробирающихся по лесистым долинам и мшистым скалам. Я была очарована портретом Людвига с глазами параноика. И везде в Шлоссе бросалось в глаза все самое слащавое, сентиментальное и тошнотворное, что только есть в немецкой культуре — особенно эта показная самовлюбленная убежденность в исключительной духовности их «расы»: «мы люди духа (geistig), мы глубоко чувствуем, мы любим музыку, мы любим звук марширующих сапог…»
Потрясающи купидоны и голуби, вьющиеся вокруг Тангейзера, который взбирается на серую оштукатуренную скалу, облокотившись нарисованным атласным локтем на тщательно выписанную драпировку, которая ниспадает с жирных бедер Венеры. Потрясающи, особенно в этом замке, живописные полотна. И вся эта страна, напоминающая Диснейленд, не оставляет никакого простора воображению. Каждый лист тщательно выписан и оттенен; каждая грудь преподносит тебе свой как бы настоящий сосок, глядящий на тебя, как глаз идиота; каждое перо купидонова крыла вот-вот затрепещет на сквозняке. Никакого простора для воображения — и от этого звереешь.
После Мюнхена и его окрестностей мы отправились на север, до самого Гейдельберга (останавливаясь, петляя и кружа по дороге), а потом поехали по автобану в Базель (швейцарский шоколад, швейцарский, немецкий и мрачный собор из камня, с видом на Рейн), а затем — в Страсбург (колыбель паштета из гусиной печенки). Беспорядочно вихляя, мы пробирались по дорогам, ведущим, более или менее, к Парижу, а потом — через юг Франции — в Италию (по Ривьере), до Флоренции, а затем снова на север до Вероны и Венеции, через Альпы, через Тичино и назад в Австрию, Германию, потом снова во Францию, и наконец — в Париж, в последний раз, где я осознала, что происходит (или часть происходящего), но и это не сделало меня свободнее (пока).
Описание этого маршрута звучит совершенно невероятно, и еще более невероятен сам маршрут, когда понимаешь, что все путешествие заняло всего две с половиной недели. Мы почти ничего не посмотрели. Большую часть времени мы провели за рулем и в трепе. И трахаясь. Адриан демонстрировал полную импотенцию, когда мы были наедине, но становился неутомимо страстным в публичных местах: в пляжных кабинках, на автостоянках, в аэропортах, на развалинах монастырей и храмов. Если во время сношения не приходилось нарушать по крайней мере два табу, то сам по себе половой акт совершенно не интересовал его. Он заводился от возможности, образно говоря, вступить в кровосмесительную связь с собственной матушкой под крышей церкви. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, et cetera.
Мы говорили. Мы говорили. Мы говорили. Выездной сеанс психоанализа. Воспоминания о прошлом. Чтобы убить время, мы составляли списки: мои бывшие любовники, его бывшие любовницы, различные варианты сношений (групповые, по любви, греховные и т. д.), места, где нам приходилось в жизни трахаться (в туалете «Боинга 707», в пустой еврейской молельне на борту «Куин Элизабет», на развалинах иоркширского аббатства, в шлюпках, на кладбище…) Должна признать, что некоторые из этих актов я сама придумала, но главной целью всех рассказов было развлечение, а не выяснение истины. Наверняка никому в голову не придет, что я когда-нибудь говорила ему полную правду.
Адриан, как любой другой психиатр, с которым я была знакома или спала, умирал от желания найти в моем прошлом какую-нибудь модель. Лучше всего — закономерную модель, саморазрушающую — хоть какую-нибудь! И конечно, я старалась ему угодить. Это было нетрудно. Когда дело касается мужчин, мне всегда не хватает такой простой черты характера, как осторожность — можно назвать это здравым смыслом. Встретив какого-нибудь идиота, от которого любая уважающая себя женщина сбежала бы куда глаза глядят, я умудряюсь находить что-то привлекательное в его сомнительных достоинствах, что-нибудь симпатичное в его заморочках. Адриану нравилось слушать такие рассказы. Конечно, он заранее исключил себя из компании этих моих знакомых невротиков. Он ни в коем случае не допускал, что может стать элементом модели.
— Я — единственный из твоих знакомых мужчин, который не относится ни к одной категории, — торжествующе говорил он. А потом призывал меня категоризировать других. И я подчинялась. Да, я знала, что превращаю свою жизнь в ритуал танца и песни, в переиздаваемый роман, в сказку про белого бычка, в дурацкую шутку… Я думала обо всех этих томлениях, боли, письмах (отправленных и неотправленных), о приступах слез, о телефонных разговорах, о страдании, о попытке представить все это в разумном свете, о психоанализе, вплетенном в живое тело наших отношений с каждым из этих мужчин, наших отношений, наших отнесений друг к другу, нашей отнесенности друг к другу. Я знала, что форма, в которой я их описала — фальсификация их сложности, их гуманности, их стыдливости. Жизнь не происходит по заранее написанному сценарию. Она гораздо интереснее и разнообразнее, чем можно сказать о ней на общепринятом языке. Возможность описать ее банальными словами не узаконивает и не расставляет ее события по местам, в действительности она беспорядочна и не укладывается ни в какую схему. Даже те писатели, которые ценят прекрасную анархию жизни и пытаются описать ее в своих книгах, невольно представляют ее другой, более закономерной и обусловленной, чем она есть на самом деле, и в результате опускаются до обыкновенной лжи. Потому что ни один писатель не способен сказать о жизни правду. Жизнь в сто раз богаче и интереснее, чем любая книга. И ни один писатель не способен написать правду о живых людях, которые гораздо богаче и интереснее, чем любой придуманный персонаж.

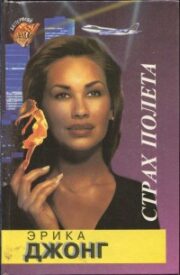
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.