— Я не могу, — сказала я.
— Ну давай, — настаивал Пьер, — я тебя научу.
— Я не это имела в виду. Я имею в виду моральные соображения…
— Это так просто, — сказал он.
— Я знаю, что это просто.
— Ну смотри, — объяснял он, — все, что тебе нужно делать, это…
— Пьер! — пронзительно закричала я. Пьер схватил свою пижаму в охапку и пулей выскочил из комнаты.
Я посидела секунду, чувствуя, как все вибрирует от моего визга, и стала ждать, что будет дальше. Ничего. Дом был мертв. Тогда я надела халат и отправилась на поиски Лалы и Хлои. Я решила по возможности быстро уехать из Ливана. Убраться с Ближнего Востока и никогда больше носа туда не казать.
Я шла по подножию холма к дому, спотыкаясь на каждом шагу о камни и корни деревьев. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, но все, что мне удалось различить — это крыши Каркаби, и над ними линию электропередачи: цивилизация! И в половине сараев и на выгонах Каркаби парни, возможно, трахают овец или своих сестер. Что же было неверно? В общем-то ничего, как я понимала, просто я не смогла. Откуда во мне подобное жеманство? Откуда моральный запрет, ведь дело только в небольшой работе губами? Наверное, потому, что начав с мужа своей сестры, можно дойти и до мужа матери — то есть своего Отца!
Но это лишь подтверждает то, что тебе нужен только Отец. Так в чем же вопрос? Быть может, стоит поработать над членом папаши — и все? Может быть, это единственный способ преодолеть страх.
Я тихонечко вошла в дом тетушки Симоны (мне пришлось прокрасться мимо мелодично храпящих тети Симоны и дяди Джорджа) и обнаружила Хлою и Лалу, сидящих на кровати и читающих вслух какую-то порноброшюру под названием «Девичья оргия». На кровати валялся еще десяток подобных произведений с характерными названиям: «Инцест Тинейджеров», «Я и моя сестренка», «Моя дочь — моя жена», «Вишневое согласие», «Длинный и короткий», «Войди в женщину», «Во все дыры», «Путешествие вокруг света» и «Поэмы о похоти».
Лала приглушенно читала какой-то очень поэтичный пассаж. На мое появление они не обратили внимания.
«Его бедра стали двигаться быстрее, (с выражением читала Лала) и я почувствовала приближение оргазма. Его тело было тяжелым, а член его я чувствовала каждым дюймом своего женского канала, и я закричала от удовольствия. Я почувствовала, что мои мышцы судорожно сокращаются, и любовные соки стали сочиться по всей длине влагалища, смазывая его мачту и облегчая движения…»
…Ну почему герои порнушек никогда не терзаются сомнениями, как я? Ведь там нет ничего, кроме огромных половых органов, протыкающих друг друга в темноте. — Не могли бы вы прерваться и поговорить со мной? — поинтересовалась я.
— А не чересчур ли это? — сказала Лала, книга в ее руках дрогнула.
— Дети, перед вами настоящая героиня, поэтому откладывайте свои порноброшюрки и поворачивайте ко мне свои грязные ушки… — Лала посмотрела на Хлою, Хлоя на Лалу, и они обе принялись смеяться, словно знали что-то, что мне было неизвестно.
— Ну так что? — Они продолжали смеяться с предательскими выражениями на лицах.
— Ну же, дурочки — рассказывайте!
— Ты ведь пришла сказать, что Пьер пытался соблазнить тебя… — заявила Лала, все еще посмеиваясь.
— Как ты узнала?
— Он ведь и со мной это пытался проделать, — сказала она.
— И со мной, — добавила Хлоя.
— Вы же дети.
— Мы уже не дети, — сказала Лала. — Если бы мы ими были…
— Так что же случилось?
— Ну, я прогнала его с кровати, и Хлоя говорит, что тоже прогнала… но я ей почему-то не верю.
— Ты, сука! — выкрикнула Хлоя.
— О'кей… О'кей… Верю.
— И вы все еще здесь после всего случившегося?
— Ну, а почему бы и нет? — грубо сказала Лала. — Он довольно безобиден… Он лишь немного не в себе из-за Рэнди, которая всю жизнь ходит беременная.
— Немного не в себе? Ты называешь это немного не в себе? Я называю это инцест.
— О Господи, Изадора, это ты уже действительно чересчур. Ведь он лишь твой зять… Это не инцест в действительности.
— Не инцест? — Я была вне себя.
— Конечно, нет, — уверенно заявила Лала, — но я не сомневаюсь, у тебя в книге все будет куда более мрачно. — Лала всегда ненавидела мои литературные наклонности.
На обратном пути с новой горничной Пьер был абсолютно холоден и подчеркнуто вежлив. Он как бы устанавливал границу между нами.
Арабы, думала я, проклятые арабы. Почему я чувствую такую непропорционально большую вину за свои мелкие сексуальные приключения? Ведь мир полон людей, которые ведут себя, как я, но никогда не винят себя за это — пока не попадутся на чем-нибудь. Почему я не люблю этого гипертрофированного эгоизма? Потому что я еврейка? Что Моисей сделал для евреев кроме того, что вывел их из Египта и дал им единобожие, мацу и непрекращающееся чувство вины? Не мог ли он оставить их в одиночестве, чтобы они поклонялись кошкам, быкам и соколам и жили подобно приматам (от которых, как не упускала случая заметить моя сестра Рэнди, мы не так уж и далеко отошли)? Можно ли вообразить, что все ненавидят евреев за то, что они научили мир чувствовать вину? Не лучше ли было остаться одним? Жить в первобытной грязи, поклоняться навозным жукам и трахаться, где придется? Возьмем, к примеру, египтян с их пирамидами. Собирались ли они кружком, чтобы поговорить о Всеобщей Равной Занятости? Задавались ли они вопросом: стоили ли посмертные пристанища фараонов тех тысяч и тысяч жизней, которые были положены на их строительство? Угнетение, амбивалентность, вина. «Что — мне следует беспокоиться?» — спрашивает араб. Никакого сомнения, что они хотят искоренить евреев. А кто же еще?
Из Бейрута мы разлетались по домам. У Лалы и Хлои был чартерный рейс до Нью-Йорка, поэтому они улетали вместе, у меня же был обратный билет до Рима.
Как я и планировала, я сделала остановку в Риме и пожила там недельку, прежде чем возвращаться к музыке и Чарли. Хоть тогда и стоял жаркий август и бродили толпы туристов — все равно Флоренция была для меня лучшим городом в мире. Тогда мы снова сошлись с Алессандро и целых шесть дней поддерживали вполне определенные, и довольно приятные, отношения. Он, по моей просьбе, отказался от своей мерзкой привычки слушать ругательства; мы сняли очаровательную комнату в гостинице в Фиесоле, где занимались любовью каждый день с часу до четырех (вполне в традициях высшего света). Быть может, виновата была моя ссора с Чарли, а может быть, Пьер действительно изменил меня, но мои отношения с Алессандро были вполне вдохновенными. Впервые в жизни я пускала себе в постель мужчину с удовольствием и радостью, и мне ни в чем не нужно было себя заставлять. Получалось что-то вроде шестидневной передышки.
Когда Алессандро уходил по вечерам к семейному очагу, я оставалась предоставленной сама себе. Я ходила на концерты в Питти, видела нескольких знакомых по предыдущим визитам, и даже меня стал преследовать пылкий профессор «Микеланджело» (Карлински). Несмотря на жару и моих друзей, у меня не было желания покидать Флоренцию. Но преподавание и кандидатская программа, ненавидимые мною, ждали меня в Нью-Йорке, а я слишком увлекалась самопожертвованием, чтобы отказаться от того, что ненавижу, ради того, что люблю. А может быть, дело было лишь в Чарли: я ненавидела его за измену, но не могла дождаться, когда его снова можно будет увидеть.
Наш с Чарли союз развалился вскоре после воссоединения. Тогда я не смогла простить ему его безразличие, которое, как я теперь понимаю, было точной копией моего, но мне было нужно немного больше понимания. Алессандро присылал из Флоренции пылкие письма с намеком на «divorzio»[55], но я видела слишком много итальянских фильмов, чтобы верить ему в этом. «Микеланджело» как-то переменился и стал уж совсем плохо выглядеть под нью-йоркским солнцем, так что я и слышать не могла о продолжении наших отношений. Светлокоричневые и янтарные тени Флоренции слишком разбудили его воображение — как когда-то заметил Е.М. Фостер. Сентябрь и октябрь были мрачными и страшными. Я погрузилась в пучину разводов, неврозов, маменькиных сынков, психозов и ссор. Я держалась на плаву только за счет своих по-женски откровенных писем к Пие. Вот тогда-то, в ноябре, в мою жизнь и ворвался в темпе вальса Беннет, и это казалось решением всех проблем. Молчаливый, как сфинкс, и очень нежный. И спаситель, и психиатр в одном лице. Я упала в свадебный экипаж (в Европе), как до этого падала в постель. Да это и похоже было на мягкую постель: все горошины были под грудой перин.
Путешествие с моим антигероем
Я жажду, я жажду!
Я все рассказала Адриану. Всю историю моей неугомонной жизни в бесконечном поиске несуществующего мужчины, оканчивающуюся тем, что я оставалась у разбитого корыта там, откуда начинала: внутри самой себя. Я воплощала его в своих сестер, маму, отца, деда, бабушку, мужа, друзей… Мы мчались и говорили, мчались и говорили.
— Что ты думаешь об этом? — спросила я; так пациент ищет утешения у знающего доктора.
— По-моему, утенок, тебе следует как можно глубже забраться внутрь себя, — проговорил Адриан, — и все там перетряхнуть и собрать по-новому, чтобы спасти свою жизнь.
Но разве не это самое я и делала? Чем же был мой безумный путь, как не дорогой в прошлое?
— Ты еще недостаточно глубоко погрузилась в себя, — говорил он. — Тебе нужно дойти до самых истоков и затем вернуться обратно.
— Мой Бог! А мне-то казалось, что я это уже сделала!
Адриан самодовольно улыбнулся приятнейшей из своих улыбок, не выпуская из полных розовых губ трубки.
— Ты все еще не достигла самого дна, — повторил он с таким видом, как будто у него был припасен для меня некий сюрприз.

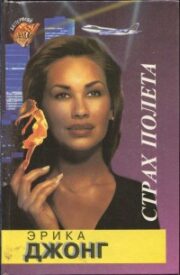
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.