На учёт её поставили. Сообщили в гимназию. Марину вызвала директор, приказала уходить:
− Возвращайся в старую школу. Здесь уголовникам не место.
Марина отказалась: с таким трудом поступила, а теперь уходить. Директор сказала, что школа получила выговор: в медкабинете «Паспорт здоровья ребёнка Марины Любушкиной» не вёлся. Паспорта здоровья других школьников тоже не велись. Но Марина ответила, что это вообще не её проблемы, эти паспорта здоровья.
− Как же не твои? – съязвила директор. – У тебя же селезёнки нет.
Ну нет и нет – Марина не стала это вслух произносить, скромно потупила глазки, вперила взгляд в пол, в новый паркет.
Бабушка часа три инструктировала, как себя вести у директора. Бабушка рассказывала о конфликтах в своей жизни, на заводе, где она работала начальником отдела кадров.
− Ты не бойся, главное – не пугайся. Чего только в жизни не случается. Ну и будут осуждать, пальцем тыкать. Потыкают и перестанут. У людей короткая память, посплетничают, поболтают, обмусолят и забудут. Мариночка! Да я просто уверена, многие ещё больше уважать тебя начнут.
− Только не в нашей гимназии, бабушк.
− Дорога моя, все организации одинаковые.
− Нет.
− Люди одинаковы.
− Нет.
− Вот увидишь. Все уважают силу. Побаиваются. И даже не вздумай согласиться на «забрать документы» − они не имеют право. Пусть тебя лучше воспитывают. Они государственное учреждение, педагогическое.
− Вы не имеете права! – Марина так и заявила директору. Что ей этот кабинет, после позора в кабинете директора спортшколы.
Директор взъелась, стала Марине угрожать, но Марина наотрез отказалось уйти.
− Хорошо же, − прошипела директор, холёная старуха с лицом сорокалетней ухоженной женщины – слух ходил, что директор делала «пластику» по многу раз на все части тела. Ходила она еле-еле, по-старушечьи передвигая ноги, на походку пластическую операцию, ведь, не сделаешь. – Хорошо же. Ты сама из школы сбежишь. Я устрою тебе весёлую жизнь.
Она собрала седьмые-девятые классы в актовом зале, выставила Марину на сцену. Марина чувствовала на себе сотни взглядов. Но Марина гордилась своей внешностью, даже следователь назвал её красавицей, она ещё прямее выгнула спину, ещё выше подняла голову: она сейчас над всеми, над этими богатенькими тупыми придурками-тюфяками.
Директор долго втирала что-то, зачитывала цитаты из «дела». Но после разбирательства в кабинете с вымпелами, это тоже было совсем не страшно. Тут на линейке не было ни Сони, ни Сониной мамы, ни её, Марининой, мамы. Ни Елены Валерьевны, ни директора спортшколы…
Киса не стал провожать её в этот день после уроков, он был удручён, Марина видела, что он переживает, на его красивом повзрослевшем за лето лице как будто был нарисован огромный вопросительный знак, а взгляд говорил: как же так? что же это?
На следующий день после уроков он, как ни в чём не бывало, взял Маринин портфель, пошёл провожать.
− Зачем ты девчонку-то била?
− Это враньё. Поклёп, − сходу заявила Марина.
− Да ладно. Синяки-то есть
− Гематомы, − Марина издевательски растягивала звуки. – Это не я. Это Варя Калоева. Девчонка из моего номера. Она мне завидовала, я же в лагере капитаном была, вот и свалила на меня всё.
− Зачем ты, Марина? – Киса остановился у перехода через дорогу. Люди шли, давно горел зелёный человечек, мигали, убывая, зелёные цифры… Кто-то толкнул Марину в плечо, кто-то сказал: «проход загородили, молодёжь»… ручейки пешеходов, обплывали их.
− Говорю же: это гон. Бред и гон, Валера. Я же – капитан. Я, наоборот, команду сплачивала. Мы второе место на турнире заняли. Если бы ругались, то проиграли бы.
− Да ладно, − сказал вдруг презрительно Киса. – Что ты врёшь, Марина! Какой ты капитан? Ты же по боковой линии бегаешь.
− Ну да: я была крайней, а потом стала полусредней…− Марина чувствовала, что Киса ей ужасно нравится. С ним ей ничего не страшно, пусть вся школа на неё косо смотрит. Главное – Киса, Кисель, Валера Киселёв – с ней, при ней; и до дома пусть непременно провожает!
− Да какой полусредней? Какое второе место? Я же видел, как ты играешь!
Марину как громом вдруг поразило.
− Ты был весной на играх?
Киса молчал, взгляд его был холоден, паутина брезгливости окутала его.
− Да. Я был на играх. Я знаю, что тебя зовут Лапша. Ещё пацан рядом здоровый такой, огромный, белобрысый, сидел рядом на трибунах и смеялся над тобой: Лапша, Лапша.
− Это мой парень! – вдруг сказала Марина. Она прокричала это на всю улицу: Зачем? Зачем? Она сама не знала зачем.
− Да, да. Твой парень.
− Бы-ыл, − замялась Марина. – Она посмотрела на Кису преданно, как самая последняя подхалимажнецкая собака. – Я тебе правду говорю, Валера. Я в лагере была капитаном, Маша, наш капитан, не поехала в лагерь. – Марина поморщилась. – У неё, прикинь, пятнадцати тысяч не нашлось. − А мелкая Сонька такая стукачка, чуть что, жаловаться тренеру бегала, ну и мама её тоже стукачка… Два сапога пара, как говорится.
− Но на линейке прочитали, что она двухтысячного года. Младше же тебя. На игре я не видел мелких.
− Да в том-то и дело. Она знаешь, какая. Рассказывала, как в школе только с семиклассниками дружит, а сама в началке ещё. И курить с ними ходит, и с уроков сбегает, придёт в школу и тут же с ними – гулять…Вот тебе и мелкая, она акселерат, гигантизмом больна. И на меня поклёп возвели.
Киса со вздохом поднял Маринин рюкзак, они молча перешли по переходу, встали на остановке. Потом, молча, ехали на автобусе. Киса о чём-то думал. У подъезда Киса спросил:
− А правда что у тебя селезёнки нет?
− Откуда ты знаешь? – вздрогнула Марина. Был прекрасный октябрьский день. Один из тех дней, которые Бунин описал в своих «Тёмных аллеях», им Авлевтина Ивановна зачитывала на уроке. Жарко, красные клёны, липы, жёлтые лиственницы, прохожие с виноградом в кульках и арбузами подмышкой и конечно с антоновскими яблоками, ароматными и безумно вкусными…
− Да в закрытой группе вконтакте скан протокола кто-то выложил.
Марина потеряла самообладание и сказала:
− Да. У меня нет селезёнки. Я как Чехов.
Киса не понял юмора, да он и не собирался его понимать, лицо его поскучнело.
− Значит, ты инвалид? А как же тебя в секцию взяли?
− Нет, я не инвалид, − горячо стала уверять Марина. – Я здорова. Просто органа нет.
− Теперь ясно, почему ты злобная такая. Больные всегда злые. У меня бабка, пока не померла, всех так изводила. Больные здоровым завидуют и мстят им просто за то, что они здоровы.
− Да нет же, Валера. Нет!
Марина понимала, что Валеру нельзя отпускать от себя. Он красив, он хороший, он прекрасный. Марина протянула руки, неловко попыталась обнять его. Он отстранился, сунул ей в вытянутые руки рюкзак, грубо сказал:
− Всё. Прощай.
− В смысле?
− В прямом смысле.
− Ты меня не любишь?
− Разве я когда-нибудь говорил, что люблю?
− Нет. Но мне так казалось, − Марина захлопала невинно глазами, она прекрасно понимала, что надо сделать всё возможное.
− Когда кажется, Любушкина, креститься надо, так моя бабка говорила, − Киса пошёл не оборачиваясь. Она так и стояла с рюкзаком в руках. Она так и не смогла обнять своего парня, бывшего парня.
Дома бабушка смотрела сериал. В телевизоре следователи ходили по школе и что-то выясняли: страшное и вместе с тем неправдоподобное, несуразное. Марина почему-то припомнила как Елена Валерьевна кумарила в лагере по мелодраматическому сериалу. Бабушка, вот, кумарит по бандитским сериалам.
– Марина! Обед на кухне. На тренировку идёшь?
− Иду, конечно, бабушка…
Это удивительно, но Елена Валерьевна не запретила Марине ходить, хотя тоже теперь знала о селезёнке. Со старшими Марина перестала тренироваться, а заместителем капитана сделали Варю. Марина чувствовала по интонациям Елены Валерьевны, что та пренебрежительно к ней относится. Она снова стала называть её Лапша. Снова, как и раньше, Марина бегала крайней в играх. Пасы ей давали мало. Но Марина заметила, что и к Соне Елена Валерьевна относится плохо. На тренировках было сносно. Марина разговаривала с девочками как обычно. И они ей отвечали, как обычно, как будто ничего и не произошло. А вот парни, когда сталкивались с Мариной в фойе или на улице, выставляли перед собой кулаки и начинали боксировать воздух, как бы защищаясь. Это было комично, все девочки и тренеры смеялись. Только Марине было совсем не смешно, ком подкатывал к горлу, хотелось плакать. А если так вёл себя Гена Гасилкин, то хотелось выть. Марине он до сих пор безумно нравился, он снился ей иногда, и тогда она весь день ходила счастливая…
После тренировки Марина прошла на кухню. Есть не хотелось. От запаха куриного бульона мутило – бабушка опять сэкономила и сварила не грудки, а ножку…
В комнате Марина подошла к аквариуму. Впервые с тех пор, как начались эти разборки, Марина заинтересовалась Юлькой. То есть она видела её на стене аквариума, и еду бросала, но не больше, землю не меняла, под краном не купала. Юлька и сама виновата: вела себя странно, по руке не ползала, рассказы Марины не слушала, сразу «бежала» в угол аквариума. Марина подошла и ласково позвала свою ахатину, свою улю-уличку:
− Как ты, Юлька? Я же про тебя стих сочинила!
«Стих» Марина сочинила, пока стояла на линейке позора перед седьмыми-девятыми классами.
Марина усадила Юльку на руку и продекламировала:
Сухопутная улитка!
Ты ползёшь ужасно прытко,
Домик круглый покидаешь.
Прыг − в троллейбус, исчезаешь.
Едешь, уля-уличка,
Переулком, улочкой
Рожками шевелишь,
Домик не жалеешь.
Говоришь:
− Тут новый домик
Он гудит, он бодр и звонок,
Рожки впились в провода,
Тряска, ветер − красота.
Шевелю я рожками,

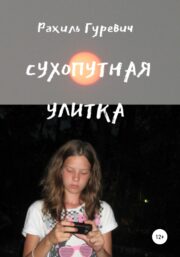
"Сухопутная улитка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сухопутная улитка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сухопутная улитка" друзьям в соцсетях.