В гостиной на диване, в обществе полупустой бутылки скотча и полного стакана сидела Стефани.
— Не думаю, что сегодня есть повод… — сквозь зубы проговорил Дэнни.
— Мне так грустно… Позвонил папа и…
— Плевать мне на твоего папу. Объясни лучше, как ты умудрилась выронить Патрицию?
— Не знаю… Я как раз снизила скорость перед светофором, а она, наверно, прислонилась к дверце…
— Запертая дверца не открывается.
— Значит, она не была заперта, — огрызнулась Стефани.
— Если бы ты не накачивалась виски после каждого звонка Джи-Эл, то помнила бы, может быть, про такую маленькую кнопочку на двери.
— Не надо разговаривать со мной, как со слабоумной!
— Я разговариваю с тобой так, как ты этого заслуживаешь… — в эту минуту, ему показалось, что Патриция заплакала.
Он бросился к ней, стал на колени возле ее кровати, вытер ей слезы своим носовым платком.
— Не плачь, не плачь… Я так люблю тебя. Не надо плакать.
— А маму ты тоже любишь?
— Конечно! Почему ты спрашиваешь?
— А почему ты кричал на нее?
— Мы просто оба сильно расстроились из-за того, что с тобой приключилась такая неприятность.
— Но она же не виновата…
После этого происшествия супружеская жизнь Дэнни явно дала трещину. Стоило ему уехать на съемки, как Стефани, забрав дочку, улетала к отцу. Дэнни ни разу не был у него в гостях, и это, очевидно, устраивало обоих. Так и шло. Он все чаще выезжал на «натуру» — тем более, что павильоны и декорации выходили из моды, требовался больший реализм, правдоподобие и достоверность, — а жена с Патрицией все чаще гостили на Лонг-Айленде. Джи-Эл пригласил даже учителя, чтобы внучка не отстала от класса.
Дэнни часто вспоминал потом, каким пустым и безжизненным показался ему его дом в День Благодарения 1980 года, когда он вернулся со съемок. Увидев плюшевого мишку — с полуоторванным ухом, без одного глаза, — он едва удержался от слез. В первый раз Патриция не взяла его с собой.
Но по-настоящему он понял, что дочь отдаляется от него, на дне ее рождения — ей исполнилось двенадцать. Она ворвалась в его кабинет в белых рейтузах и черных высоких сапожках.
— Папочка, у меня будет лошадь, представляешь? Моя собственная лошадь!
— О чем ты, не понимаю, — Дэнни, отложив рукопись сценария, посадил дочь на колени.
— Дедушка дарит мне на день рождения настоящую, живую лошадь — серую в яблоках. — Она порывисто обняла его.
— Это замечательно, Патриция, но где она будет жить?
— На Лонг-Айленде.
— Да? Ну, тогда тебе не слишком часто придется скакать на ней.
— Ну, почему же? Каждый уик-энд. Дедушка устраивает меня там в школу.
Дэнни почувствовал, как сухо стало во рту, но глаза дочери так сверкали от счастья, что он ничего не мог ответить ей.
— Посмотри-ка, папочка! — она подняла руку. — Тебе нравится?
Дэнни смотрел на массивный золотой браслет, обвивавший ее хрупкое запястье. Он наверняка стоил несколько тысяч долларов. Его подарок — часы с изображенным на циферблате медвежонком — казался в сравнении с этим убогой дешевкой.
— Пойду покажу маме!
Когда она спрыгнула с его колен и выскользнула за дверь, Дэнни показалось, что она ушла навсегда.
Все это было печально, но неизбежно: они со Стефани пришли к выводу, что им необходимо расстаться. Часы больше не били — некому стало заводить их. Стефани и Патриция почти постоянно жили теперь на Лонг-Айленде. По жене он совсем не скучал, а вот разлука с дочерью была непереносима.
Дэнни считал дни, оставшиеся до конца учебного года. 24 июня Патриция должна была, как обычно, прилететь в Калифорнию и провести с ним три недели — целых три недели они будут вдвоем: он и она, и больше никого.
Он был горд и рад, когда через несколько дней после прилета она спросила:
— Папа, можно я пойду с тобой на студию? Я хочу посмотреть, как снимают кино.
Ей ужасно понравилось на съемках. Теперь она читала все его сценарии. Она задавала вопросы — на взгляд Дэнни, очень толковые — и вносила дельные предложения.
В последний день, когда Дэнни вез ее со студии домой, Патриция о чем-то глубоко задумалась.
— О чем ты думаешь?
— Я хочу заниматься тем же, чем ты. Хочу снимать кино, — сказала она, выглядывая из окна.
Дэнни, охваченный волнением, не сразу нашелся, что ответить. Прелестная четырнадцатилетняя девочка не сказала: «Хочу быть кинозвездой». Она хочет снимать кино. И у нее есть способности к творчеству, она хорошо пишет. Но вместе с тем ей присуща особая душевная тонкость, которая может обернуться хрупкостью и неуравновешенностью — это тревожило Дэнни. Ее голосок вывел его из задумчивости:
— Папа, возьми меня летом в экспедицию. Возьми, а?
— Конечно, возьму, — ответил Дэнни, стараясь скрыть, какой восторг забушевал в нем от этих ее слов.
Она улетела, а потом раздался звонок с Лонг-Айленда:
— Папочка, я так огорчена… Мне так хотелось поехать с тобой летом на «натуру»… Но… так получается… что… Одним словом… — она осеклась.
— Ну, так что же, говори, Патриция!
— Ты не подумай, что дедушка специально это подстроил… Он не виноват, честное слово….
Дэнни с бьющимся сердцем слушал. Так он и знал.
— Но он заказал сафари в Африке…
— В Африке?
— Да, а мы как раз проходили горилл в школе…
— Значит, ты со мной не поедешь?
— Он так старался… так хлопотал… хотел сделать мне сюрприз и везет туда весь наш класс…
— Я все понимаю, — сказал Дэнни, чувствуя, как заныло сердце. Да уж, подумалось ему, Джи-Эл костьми ляжет, но не допустит ее в «еврейскую шатию».
— На будущий год я обязательно поеду с тобой, папочка.
— Конечно.
Этому не суждено было случиться никогда.
Глава VIII
1987.
БРАЙТОН, АНГЛИЯ.
Магда с трудом распрямила затекшую спину, обеими руками потерла ноющую поясницу. Но облегчение было мимолетным: боль вернулась, как только она взглянула на пирамиду коробок с мылом, сложенную у двери. Три коробки она уже отнесла на третий этаж, причем по более крутой и длинной черной лестнице — полковник Джонсон не желал, чтобы постояльцы видели его жену за этим занятием.
Раньше это было обязанностью Любы. «Где она теперь? Что с ней?» — поглядывая на море, растирая поясницу, думала Магда. За полгода она получила только одно письмо от дочери и страшно обрадовалась.
Почтальон пришел в тот день позже обычного, когда полковник Джонсон прилег вздремнуть. Магда отнесла всю корреспонденцию к нему в кабинет — и вдруг узнала на одном из конвертов почерк Любы. Дрожащими руками она достала письмо.
Я очень скучаю по тебе. Я в Лондоне, мы с моей подругой Луи снимаем на двоих очень милую квартирку. Тебе бы тут понравилось. Из новостей — главная: я сыграла в одном фильме и, если повезет, может быть, я стану актрисой…
Внезапно письмо вырвали у нее из рук.
— Разве я не запретил тебе поддерживать с нею связь? — Полковник Джонсон комкал письмо в кулаке. — Твоей дочери больше не существует! — Он с силой толкнул Магду на тот самый диван, где когда-то спала Люба.
Со своего письменного стола он схватил перо и бумагу, швырнул их дрожащей Магде:
— Пиши то, что я буду тебе диктовать! По-английски пиши!
Магда, опустившись на колени перед низеньким кофейным столиком стала писать:
У меня все прекрасно. Но я очень занята и не могу тратить время на письма. Поэтому будет лучше, если и ты перестанешь мне писать.
Потом он забрал у нее листок и сказал, что сам отправит письмо. Магда поднялась с пола, достала из мусорной корзины письмо Любы, бережно разгладила его и спрятала в карман передника.
Уже шесть месяцев это письмо было единственной нитью, связывавшей ее с дочерью, и Магда перечитывала его сотни раз. Вчера, преодолев страх перед полковником, она наконец написала Любе, рассказывая, каким неслыханным унижениям подвергает ее муж, и прося помощи. Что ей делать? Искать адвоката? Убежать? Она ждала от дочери совета. Магда украла со столика портье почтовую марку и попросила одного из уезжавших постояльцев бросить письмо в ящик. Если Люба получит его, она скажет ей, как поступить.
Сейчас, стараясь не обращать внимания на ломящую спину, она нагнулась за очередным картонным ящиком. Каждый следующий поход на чердак казался длиннее предыдущего. Магде давно уже надо было начинать готовить ужин для тех немногих, что остались в отеле на осень. Следовало поторопиться. Коробка была неподъемная. Может быть, полковник еще спит? Тогда можно было бы пройти короткой дорогой — по главной лестнице. Магда, крадучись, потащила ящик, а когда увидела мужа, поворачивать было уже поздно. Как всегда выхолощенный, безукоризненно одетый, с торчащим из нагрудного кармана краешком белого платка, он приветливо и доброжелательно беседовал в углу холла с кем-то из постояльцев. Магда похолодела.
Улыбаясь, он приблизился к ней и весело сказал:
— Дорогая, зачем же самой поднимать такую тяжесть? Позволь… — он взял у нее ящик, изящно поклонился клиентам. — Прошу извинить, я вернусь через минуту.
Магда молча шла за ним. Когда они поднялись на второй этаж, где их никто не мог видеть, он швырнул ящик Магде так, что та едва успела подхватить его. Полковник хлестнул ее по щеке.
— Сука, — прошипел он сквозь зубы. — Тебе же было сказано носить только черным ходом! Шевелись и смотри, не опоздай с ужином! Курва!

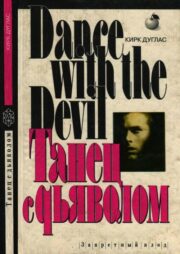
"Танец с дьяволом" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец с дьяволом". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец с дьяволом" друзьям в соцсетях.