Когда он впервые остался у нее ночевать? Через неделю? Две? Он точно не помнил. Помнил только, как позвонил Любочке.
— Я не приду, — сказал коротко.
— Ты у Вити?
— Нет.
Любочка задышала, приготовилась плакать. Но он молчал, и она затихла тоже. Марк подождал и, не дождавшись отклика, аккуратно положил трубку на рычаг. Больше он ей не звонил. У Майки оставался все чаще. Домой приходил все реже. Любочка наклоняла голову, теребила пуговку на розовом халатике, складывала ноги крест-накрест, прятала под табуретку. Он ложился на диван в гостиной, укрывался с головой и отворачивался к стене. В доме пахло прогорклым луком. Однажды он поймал себя на том, что водит пальцем по обоям. Обои были старые, он сам их клеил десять лет назад, когда вернулся от Нины. «Надо делать ремонт», — подумал он и испугался. Ему вдруг показалось, что история пошла по второму кругу. А еще одного такого забега он бы не выдержал.
Утром он вышел на кухню, положил на стол сберкнижку — ту самую, где и палатка, и байдарка, и спиннинг, и металлические рыбки в трехэтажном ящичке, — придавил сверху ключами.
— Ну, я пошел! — сказал весело и хлопнул дверью.
Он стоял за углом дома и ждал, когда она появится. Еще пять минут… Три… Одна… Майка выныривала из метро, и он каждый раз поражался тому, как меняется пространство вокруг нее. По бокам — нет, не серое, даже цветное, но слегка выцветшее, что ли, обыкновенное, докучливое. Майка шла среди этого докучливого, будто заключенная в капсулу с расплавленным янтарем, облитая сладким растопленным медом. За ней тянулся такой же медовый след. Все — люди, дома, машины, собаки, пыльный июльский асфальт, мусорный бак в соседнем дворе, валяющийся поодаль хвост селедки — вдруг наливалось янтарным медовым светом. Он выступал из-за угла, протягивал руку и окунал ее в этот теплый поток. Рука тяжелела, пальцы щекотало, в голове начинало звенеть.
— Пойдем, — говорил он. — Пойдем! — и тащил ее в подъезд.
Майка хохотала, делала вид, что сопротивляется, упиралась ладошками ему в грудь, он хватал ее на руки и нес наверх.
— Мы тут! — кричала Майка, когда они, распаренные и пыхтящие, вваливались в квартиру.
На крик выбегал Ванька, вис у них на руках, хватал Марка за ремень, Марк подхватывал его тоже, втроем они падали на диван, дрыгали ногами, задыхаясь от смеха, Марк прижимал их к себе — сильнее, сильнее… Потом Майка быстро вскакивала, хватала Ваньку под мышки, выставляла в коридор и плотно закрывала дверь.
По ночам они валялись просто так, курили, болтали, следили, как бродит по потолку лунная дорожка. Марк брал Майкину руку и водил указательным пальцем по своему лицу: от волос вниз по лбу, вдоль бровей и дальше — вокруг глаз, к носу, палец опускался ниже, он прикусывал острый коготок, Майка вскрикивала и хватала его за нос. Нос немедленно вспухал, из глаз катились слезы.
— Прекрати! — кричал он. — Мне же завтра на работу!
Почему-то это ужасно ее смешило.
И дыхание. Дыхание было легкое. Такое легкое, будто ему опять двадцать лет.
А самое страшное — субботнее утро. Он просыпался, уже зная, что увидит на кухне Майкин затылок. Вставал. Полз в ванную. Долго чистил зубы. Выходил на кухню. Приваливался к косяку.
— Ну, Май… — говорил он. — Ну, Май…
Майка, не оборачиваясь, жарила яичницу. Затылок ее с подколотыми кверху утренними выходными волосами выражал какое-то суровое презрение.
— Ну ты же знаешь… — мямлил он и шел одеваться.
В машине долго сидел с включенным мотором. Медленно выезжал со двора. Медленно ехал. Долго парковался. Медленно выходил. Медленно поднимался по лестнице.
Любочка ждала его в прихожей. На полу — сумки с продуктами. Смена постельного белья.
— Так, — говорила деловито. — Еще в хозяйственный за порошком и мать просила валокордину. Да, отцу газеты, не забыть бы.
Он запихивал сумки в багажник и тоскливо глядел на тюк с бельем, Спали они на втором этаже. То есть второго этажа, как такового, не было. Был чердак, где отец хранил всякую дребедень. Когда они с Любочкой поженились, на чердак втащили старый бабушкин диван, забросали сверху спальными мешками, получилось ничего, даже спать можно. Диван был двукрылый. Крылья от старости стояли стоймя, и во сне они, как с горки, скатывались в ложбинку между двумя половинками. В этой ложбинке на пыльном дачном чердаке они спали свое двадцать первое лето.
С утра Любочка выходила на садово-ягодные работы. Мать вставала к плите. Отец раздавал указания. Марк возился в сарае, что-то там строгал, пилил, точил. Старался не попадаться им на глаза. Обедали на терраске. К обеду приезжал младший брат с женой. Лялька, проводившая на даче последние школьные каникулы, прибегала от подружек. Отец поднимал рюмку с домашней наливкой. Строго окидывал взглядом стол. Мать делала незаметный знак, мол, кончайте жевать, слушайте.
— Не все ладно в нашей семье, — размеренно начинал отец.
Любочкино лицо наливалось томатным цветом, надувалось, распускалось и начинало мелко дрожать. Младший брат украдкой переглядывался с женой. Лица вдруг становились постными и какими-то неживыми. «Глупость какая!» — думал Марк и отворачивался к окну.
— Не все ладно в нашей семье! — повысив голос и как бы призывая всех собравшихся проникнуться важностью момента, продолжал отец. — Не так я представлял себе жизнь своих детей. Ну и пусть, что я, я уже свое отжил, а у вас еще все впереди. И вот что я вам скажу! — Отец делал паузу, строго смотрел из-под кустистых бровей. — Вот что я вам скажу! Никогда у нас в семье разводов не было. И не будет! — Отец взмахивал рюмкой, будто кому-то угрожая. Наливка выплескивалась на скатерть. Мать хваталась за тряпку. Любочка всхлипывала и цыкала зубом. — Так что постарайтесь это понять. А тебя, — он оборачивался к Любочке, — мы с матерью как родную дочь любим.
Любочка мелко кивала. Марк вставал, уходил в сад. В саду долго курил, прислонясь к яблоневому стволу. Вечером забирался под спальный мешок, закрывал глаза. Рядом, в ложбине, тяжело ворочался Любочкин бок. 15 сентября он перевез родителей в Москву. Лялька пошла в одиннадцатый класс. Надо было как-то устраиваться.
— Надеюсь, все останется по-прежнему, — сказала мать, когда он выгрузил из багажника последнюю банку с огурцами.
— Что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду твою жизнь. Ляля заканчивает школу, ей поступать надо, а она на нервах вся. Ты не видишь, не хочешь видеть, а мы с отцом ее истерики все лето наблюдали. И Любочка… Впрочем, до Любочки тебе дела нет. Тебе ни до кого дела нет, кроме себя и этой, твоей…
— Мама!
— Что «мама»? В общем, так. Как хочешь, но по воскресеньям чтобы, как обычно, были у нас. С Любочкой. И на неделе, будь добр, заезжай домой хотя бы пару раз.
Он был добр. Сценарий его жизни вырисовывался такой: после работы домой, то есть к Любочке. У него до сих пор как-то язык не поворачивался говорить «к Любочке», все — домой да домой. И не пару раз в неделю, а почти каждый день. Любочка ему готовила, как говорила Майка, «фронт работ». Фронт работ выходил обширный. Ляльке помочь с уроками. По магазинам. Починить там чего. Картошку на зиму купить пару мешков. У них почему-то при почти производственных заготовительных мощностях никогда не хватало до весны картошки. Морковки, впрочем, тоже. Для картошки он в своем — теперь уже бывшем — гараже вырыл специальный погреб. Несколько дней рыл, потом бетоном заливал, потом мешки туда перетаскивал. После рытья поднимался домой, мылся, Любочка кормила его ужином. Смотрели телевизор, сидя в креслах, симметрично поставленных по обе стороны дивана. Сидели ровно, держа руки на коленях. Молчали. Любочка любила игры, а он — спорт и детективы. Но желаний своих не высказывал. В чужом доме приходится приноравливаться ко вкусам хозяев. Потом он начинал маяться. Поглядывал на часы. Дергался. Наконец вставал, натягивал куртку и начинал топтаться в дверях. Любочка дергала шеей, дрожала лицом. Лялька закрывалась у себя в комнате. Прощаться не выходила. Он выкатывался за дверь, мчался к Майке. Там все уже спали. Майка выбрасывала из-под одеяла сонную руку, тянула его к себе. Он утыкался ей в плечо. «Завтра надо починить Любочке кран», — думал, засыпая.
На день рождения он подарил Любочке колечко с крошечным фианитом. Справляли у родителей. Они всегда все справляли у родителей. И по воскресеньям — как велено! — садились за родительский стол в полном составе: Марк, Любочка, Лялька. На Любочкин день рождения мать назвала каких-то трухлявых старух. Черт ее знает, откуда она их брала. Говорила, отцовские кузины. Марк подозревал, что никаких кузин у отца отродясь не было, а была неуемная жажда родственности, семейного клана, общих семейных забот и общих семейных радостей. Оба сына в эту общую семейственность не вписывались, даже между собой не очень-то дружили, так что приходилось сгребать в кучу всех имеющихся в наличии бедных родственниц. Соседки тоже годились. Бывшие сослуживицы. Марк всю жизнь чувствовал вину за свою отдельность, поэтому с трухлявыми кузинами обращался с подчеркнутой любезностью. Ручки целовал. Стулья подвигал. Салатики накладывал.
— Не все ладно в нашей семье! — громко говорил отец, когда все рассаживались по местам, и поднимался во главе стола с рюмкой в руках.
Любочкино лицо опять наливалось томатным цветом. Соседки переглядывались. Марк вставал и уходил курить.
— Вы не поверите, Марьвасильна! — услышал он как-то из-за приоткрытой двери, когда курил на лестничной клетке. Две бабульки шушукались в коридоре. — Не поверите! Жену любит, просто не может! Кольцо подарил.
— Да что вы!
— Ей-богу, любит! А ночевать уходит к другой.
Марьвасильна качала птичьей головкой, причмокивала, ахала, всплескивала пигментными лапками. Марк появился в коридоре, бабульки посмотрели осуждающе и прошли мимо, гордо подняв цыплячьи хохолки в каком-то непонятном ему порыве всеобщего женского единения. «Они меня обложили, — обреченно подумал Марк. — Придется держать круговую оборону».

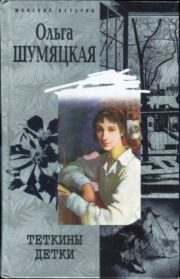
"Теткины детки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Теткины детки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Теткины детки" друзьям в соцсетях.