— Ай!
— Несносная девчонка! Попросту чертенок…
В груди Евы поднимается горячая волна сопротивления. Она распирает ее грудную клетку, вынуждая дышать часто и шумно.
— Не называй меня так!
Вот только маловероятно, что Ольга Владимировна слышит ее сейчас.
— Не двигайся. Постой спокойно, хоть минуту… Боже… Нет, это попросту непоправимо. Поднимайся в свою комнату. Ты наказана, Ева.
Губы девочки начинают дрожать.
— Это значит, что я не смогу спуститься, даже если переоденусь.
— Именно это и значит. Посиди, подумай.
— Но, мама! Пожалуйста…
— Вопрос решен, Ева. Ступай за Ириной Давидовной.
Скачок времени, будто быстрая перемотка на старом видеоплеере. С помехами и размытым мельканием событий.
— Что ты творишь, Ева? Слезай немедленно! — окрик отца застает девочку врасплох, и она, теряя равновесие, падает с деревянного бруса вниз.
Приземляясь на спину, не может сделать вдох из-за сильной боли, парализовавшей все ее внутренности.
— Я же предупреждал тебя, Ева!
Ей больно и очень обидно, но она делает крохотный вдох. Еще один и следом второй. Старается справиться с болью и слабостью. Приподнимается, прижимая руки к груди, словно это прикосновение способно исцелить.
— Почему ты злишься, папа? Я же не специально упала.
— Вставай.
Он не пытается ей помочь. Растирая по щекам слезы, Ева сердито смотрит на него.
— Если ты будет продолжать кричать, в следующий раз я упаду и умру!
Волна ярости закручивается вокруг девочки, словно спираль. Лицо отца расплывается перед ее глазами. Грудь сжимается, наполняясь тяжелой ношей злости.
Страницы жизни перелистываются и замирают.
Плача, девочка кромсает свой альбом с фотографиями. Вырезая из каждой отца с матерью, оставляет себя одну в этих постановочных воспоминаниях. В грязном нежно-розовом платье, подол которого не ложится из-за пластиковых колец пышного подъюбника, устилает ворсистый персиковый ковер разноцветными обрезками, прерываясь лишь на короткие перемещения к свободному участку.
Узрев эту картинку, Ирина Давидовна роняет чашку с принесенным молоком.
Звон бьющегося стекла проталкивает время дальше. Ева задыхается от этого толчка и долгое время не может восстановить дыхание.
Будто завороженная, смотрит, как узкая красная струйка шустро бежит по напольному покрытию. Липким слабым теплом лижет детские пальчики и огибает пяточки. Страх, омерзение и полнейшее замешательство искажают миловидное личико Евы. Ее губы дрожат, пока взгляд следует вглубь помещения в поисках источника грязной лужицы.
Сердце с ужасом врезается в грудную клетку, колотится об нее, будто до безумия взбудораженная птица.
Густая алая жидкость скорым ручейком вытекает изо лба распростертого на полу человека. Еву пугают не столько рана и вид крови, сколько неподвижные пустые глаза мужчины.
— Что случилось с этим человеком, папочка? — взволнованным шепотом спрашивает Ева.
— Ничего, — выплевывает Исаев и встряхивает дочь, будто тряпичную куклу, насильственно разворачивая ее к себе.
Всматривается в искаженное ужасом детское личико недовольным взглядом.
— Этот человек мертв? Ему больно?
Сотрясается. Сопротивляется видению, постанывая и скрипя зубами. От непомерной частоты дыхания подступает тошнота.
— Эва, — снова эта тяжелая ладонь на запястье.
Сердцебиение и шум в ушах приглушают звуки, всплывающие над девушкой. Но она концентрируется только на одном голосе и теплых импульсах, которые идут от кожи этого человека.
«Ладно…»
«Мне страшно».
«Разбуди меня…»
«Абракадабра, Эва».
Но волшебство не срабатывает. Дыхание Евы обрывается, и видения снова уводят ее в свои пенаты.
Моргает. Вытирает грязные руки в складках голубого платья. Оно в любом случае слишком объемное, и появившиеся пятна можно скрыть, если сложить его правильным образом.
— Вот так.
Довольно выдохнув, бежит к гостям.
Хватая пирожное из серебряного подноса, не успевает поднести его ко рту.
— Хватит есть, Ева. Ты себя видела? — шипит Ольга Владимировна, наклоняясь к дочери и щипая ее за живот.
Девочка морщится и давит горькую обиду, отстраненно слыша, как кто-то зовет маму по имени.
На лице женщины вспыхивает странное выражение. Широкая улыбка, которая Еве абсолютно не нравится, хоть адресована она и не ей.
— Ольга! Какая же у вас все-таки красивая дочь! Только поглядите… Изумительная красота!
— Спасибо, — важно кивает Исаева и напряженно шепчет дочери. — Ева, держи спину ровно.
Девочка подчиняется и тут же тянется к матери, жалобно заглядывая в глаза. Ищет там нечто знакомое и родное.
— Мамочка, у меня что-то застряло в животе. Очень-очень болит.
На лице Ольги Владимировны отражается шок. Но обусловлен он, как может сначала показаться, не беспокойством, а стыдом за поведение девочки.
— Господи! Что за манеры, юная леди?
— Но, мамочка…
— Просто потерпи. Бога ради!
Теплые пальцы мягко раскрывают ее ладонь. Поглаживают линии и холмики. Ева уверена, что эта крепкая рука может причинять боль, но сейчас ее обладатель действует нежно и осторожно.
Кожу ладони покалывает. Мысли в сознании врезаются и распадаются на непонятые фрагменты.
Забывается в их изобилии.
Глава 22
Ехидно улыбаясь, девочка выливает красный соус на блестящее золотое платье Ирины Кругловой.
— Ева! — восклицает Исаева. — Боже, мне так жаль… Сейчас же извинись!
— Не стану! Никогда не буду! Она плохая!
Еву крайне возмущает, что мама не замечает того, что Круглова над всеми насмехается.
— Перестань!
— Она плохая. Плохая! Плохая! Плохая!
— Перестань немедленно!
— Мне не нравится, что вы приходите к нам в гости, — запальчиво выдыхает девочка. — Никто в этом доме не хочет с вами дружить. Я уж так точно не буду!
— Почему же? — натягивая снисходительную улыбку, спрашивает Ирина Петровна.
— Потому что у вас злые глаза и жестокие шутки! — Ольга Владимировна грубо дергает дочь за плечо, но девочка вырывается и продолжает высоким подрагивающим голосом. — Мои папа и мама рядом с вами ведут себя странно. Я не хочу, чтобы они были такими!
Когда Ева чувствует, что готова заплакать, происходит смена декораций. Новый фрагмент воспоминаний вырван из школьного двора. Тяжелые косы лежат поверх белой плотной блузки. Ветер играет с пышными бантами и подбрасывает мятую ткань школьной юбки.
Девочка откручивает крышку на бутылке с водой, но отпить не успевает. Ее останавливает заявление одноклассницы, которую она мысленно представляла своей новой подругой.
— Мой папа сказал, что твой папа бандит. Он сказал, мне лучше с тобой не дружить.
— Что-что?.. Что он сказал?
— Твой папа бандит, — простодушно повторяет Ульяна.
Маленький кулак Исаевой с яростью врезается в скулу Варламовой. Прочесывая ногтями кожу, она зарывает пальцы в ее светлые волосы и тянет их на себя.
— Лгунья! Не смей больше так говорить! Никогда! И дружить я сама бы с тобой не стала, — никто из детей не пытается ее остановить, напуганные и шокированные внезапной агрессией. — Кому захочется дружить с такой врухой? Никому! Слышишь меня?
Все слышали. Не только Ульяна Варламова. Она стала первым сотворенным руками Евы Исаевой изгоем общества.
Толчок. Перемотка.
Пальцы порхают по черно-белым клавишам фортепьяно.
— Не так быстро, девочка, — останавливает Еву педагог, придерживая за локоть. — Торопясь, ты портишь мелодию до неузнаваемости. Пьеса «Грезы» — легкая, воздушная и спокойная, подобно человеческим мечтам.
— Мои мечты не такие занудные, как у Шумана[1]. Sorry!
Женщина, сохраняя невозмутимую моральную устойчивость к дерзким высказываниям девочки, прижимает перемычку очков вплотную к переносице и решительно кивает.
— Давай еще раз. Легко, невесомо…
Резкий удар по клавишам. Мелодичный, но стремительный перекат. Идеальная последовательность нот, но абсолютно недопустимое звучание.
Порывистый вздох педагога, бессильно застывшей у фортепьяно.
— Абсолютно не то… Остановись, девочка.
Только этого и ожидающая, Ева резко обрывает мелодию.
— Плавно, легко, неторопливо…
— Может, вы просто скажете маме, что это не мое?
Женщина смотрит на девочку долгим пристальным взглядом. И Ева практически уверена, что добилась своего, когда та кивает и направляется к двери.
Болтая ногами, считает пальцами клавиши, словно их могло стать меньше или больше, и прислушивается к разговору Тополевой с родителями. Фраз педагога не то, что не разобрать — их даже не слышно. А вот ответ отца, выверенный до идеальной тональности, не оставляет сомнений и домыслов.
— Не прекращайте репетицию. Она делает это назло. Пусть продолжает, пока не получится так, как нужно, — холодно произносит Павел Алексеевич. — Меня не остановит даже ее голодный обморок.

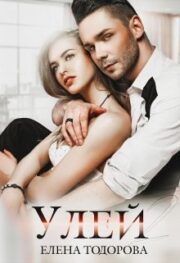
"Улей 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Улей 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Улей 2" друзьям в соцсетях.