Не могу вспомнить своего почтового индекса; и мобилизовав на это все свои умственные способности, поднимаю глаза, – кого же вижу перед собой? Мой «грабитель», собственной персоной, тоже возится с анкетой, примостив ее на своем широком колене. Мусолит огрызок карандаша, – видно, не меньше, чем я, озадачен этой абракадаброй. Пересаживаюсь поближе, он встречает меня приветливо, как старого школьного друга. Заглядываю через его плечо в анкету. У него не заполнено ни одной графы.
– Глупейшая анкета, верно? – говорю я. – Как вас звать?
– Дэвид, – отвечает он. – Я… н… н… не могу… ч… читать без оч… очков.
– Давайте прочитаю. – Называю ему свое имя, и он с улыбкой повторяет его, совершенно свободно выговаривает: «Хилари».
Его полное имя Дэвид Александр Кеннеди, впечатляющее имя. Среди всего прочего узнаю, пока заполняю анкету, что он уроженец Халла, не женат, двадцати шести лет, – последнее печально, так как выглядит он значительно старше. Его ближайшие родственники – мать, имя – Сибил, ее рабочий телефон начинается с 800. У него не было травм, и он не знает номера своего страхового полиса.
– Я тоже забыла свой номер, – говорю я, чтобы утешить его. По-моему, Дэвид выглядит не так уж плохо, по крайней мере, не отталкивающе, улыбка красит его.
Народ выстраивается в очередь у двери с табличкой «выход», полицейские собирают анкеты, а потом передают пассажиров парома парамедикам, которые прибыли на «скорых».
– Не поеду я в эту больницу, – заявляю Дэвиду. Он смотрит на меня укоризненно, дескать: «Надо бы все же». – Чувствую себя превосходно, – объясняю ему. – Меня спасли вы.
Подойдя к окну, насчитываю семь машин скорой помощи, большие, размером с грузовик. Погрузка идет удивительно быстро. Потом парень захлопывает заднюю дверцу, и «скорые» отъезжают, одна за другой, мигалки включены, но без сирен. Значит, пострадавших нет. На улице какое-то волнение. Собирается небольшая толпа, здесь же и группа телевизионщиков с телекамерами в черных футлярах.
Дэвид хлопает меня по плечу и указывает на очередь людей с анкетами в руках. Киваю в ответ и говорю ему, что присоединюсь к ним через секунду.
Не поеду в больницу. Понятия не имею, где здесь поблизости есть больница. Неподалеку от последнего окошечка конторы дверь с надписью «выход». Мелкими шажками, с безразличным видом, будто всецело погрузилась в изучение анкеты, направляюсь туда. Задумчиво барабаню ручкой по щеке, чтобы все видели, как сосредоточенно я изучаю анкету. Хмурю брови. Подхожу к двери и прислоняюсь к ней спиной, как бы не подозревая, что там выход. Молодой человек за одним из окошечек конторы улыбается мне, отвечаю ему улыбкой, а затем опять утыкаюсь в анкету. Он продолжает наблюдать за мной. Стоит мне поднять глаза – он отводит взгляд в сторону. Волосы у него подстрижены «ежиком», тонкий нос по форме напоминает аккуратный маленький сверточек. Он в очках с толстыми линзами. Ему не больше двадцати.
На мое счастье, чиновник рангом повыше дает ему задание что-то разыскать в картотеке, поэтому молодой человек удаляется рыться в одном из металлических ящиков, которые стоят штабелями вдоль стены. Бесшумно повернув ручку двери, выскальзываю из холла, стыдясь своего поступка, чувствуя себя виноватой, ибо совершенно не способна управляться с подобными ситуациями так, как делают это другие. Осторожно закрываю за собой дверь, тихо повернув ручку. Побег из неволи. Правонарушение. Негодяйка, дрянь, ничтожество, тряпка…
На бетонной лестнице с железными поручнями пахнет сыростью; по восемь ступенек направо и налево, потом поворот и еще восемь ступенек. Держась за перила, бегу по ступенькам, стараясь не топать. Наконец останавливаюсь перед металлической дверью, выкрашенной в странный светло-голубой цвет. Над ручкой двери установлен сигнал тревоги и под ним табличка: «Чтобы включить сигнал, откройте дверь». Вглядываюсь в механизм, пытаясь разобраться в его устройстве. Может, каким-то чудом мне удастся выключить сигнал, как это ухитряются сделать участники передачи «Невыполнимые поручения», но не могу придумать ничего подходящего. Наверное, надо бы поехать в больницу, там бы увидели, что со мной все в порядке, а потом я отправилась бы в Бостон за отцом Виктора. Единственная проблема: потеряю уйму времени, Виктор на целый день останется без присмотра, одинокий и больной.
В нерешительности поднимаюсь на несколько ступенек к конторе спасательной службы. Все идет кувырком. События прошедшей ночи неотступно преследуют меня: Виктор опустошает ящики; наши вещи, сваленные в кучу, как мусор; миссис Беркл в своей спальне; парашютист. Потом вспоминаю все, что было в последние месяцы, удивительные месяцы, до того как болезнь завладела Виктором. Вот мы с Виктором стоим под кленом, осенние листья дождем осыпают нас и шелестят под ногами. Вот он тащит по лестнице коробку с книгами в нашу квартиру в то утро, когда мы приехали в Халл. Вот в прачечной-автомате заботливо сворачивает мои вещи.
Поворачиваюсь; перепрыгиваю через три ступеньки, сбегаю вниз и пулей пролетаю в аквамариновую дверь.
Меня оглушает пронзительный вой сирены. Я-то думала, что дверь ведет на улицу, а вместо этого попала в узкий полутемный коридор с цементным полом. Вой сирены подгоняет меня; стрелой промчавшись по коридору, попадаю в другой коридор, который сворачивает направо. Через каждые десять футов двери. Толкаю их, изо всех сил кручу в разные стороны ручки, но все они заперты. Твержу про себя одно слово: «Дерьмо, дерьмо, дерьмо».
Наконец вижу лестничный марш, ведущий вниз, и слабую полоску света на одной из серых ступенек. Эта дверь ведет на улицу. Толкаю ее и чувствую, как холодный воздух струей врывается в легкие. Пробираюсь к той стороне здания, которая выходит на залив. Вспугиваю по дороге стаю чаек, которые взлетают, пронзительно крича, огромным шумным облаком.
С другой стороны здания до меня доносятся голоса людей, поэтому направляюсь к пристани и вытащенному на берег катеру спасательной службы. Сирена, наконец, замолкает. Все, кто был в здании, теперь сгрудились на автостоянке; по улице мчится пожарная машина, увертываясь от встречных «скорых», и сворачивает на подъездную дорожку. Полицейские все еще призывают сдавать анкеты. Синие и красные огни мигалки вспыхивают на фоне ослепительно белого снега.
Телерепортер отдает распоряжения своей команде, они устанавливают камеры на плечах, стараясь ничего не упустить. Толпа наблюдателей увеличилась. Некоторые захватили с собой пончики и кофе. Покидаю свое убежище за катером и смело шагаю по снегу. Мне кажется, что все они уставились на меня, будто я первый солдат приближающейся вражеской армии, – но никто не обращает на меня внимания.
Стою в толпе, которая с таким любопытством глазеет на здание спасательной службы, как будто оно в любой момент может рассыпаться в прах. Спрашиваю у женщины в пальто из искусственного меха, что случилось, и она говорит, что в заливе затонуло судно и спасатели все утро вытаскивали из воды людей. Мужчина рядом с ней, возможно, ее муж, возражает: «Нет, из воды никого не вытаскивали. На борту вспыхнул пожар, и люди чуть не задохнулись от дыма». У парнишки в мотоциклетной куртке своя версия: «На паром была подложена бомба».
Некоторое время стоим молча. Я высказываю свое предположение: может, мотор отказал, или паром налетел на риф и получил пробоину. «Возможно, паром особо и не пострадал, – говорю я, – но на всякий случай выслали спасателей».
Мою версию все дружно принимают в штыки. Дама в мехах, возмущенно надув щеки, говорит: «Нет». Ладно, соглашаюсь я, может, какие-то террористы захватили судно, капитан схватился с ними врукопашную, а экипаж тем временем занимался спасением пассажиров. Мотоциклетный парнишка, закусив губу, обдумывает такой вариант.
Несколько минут спустя направляюсь домой.
Сворачиваю за угол на нашу улицу, вертя на пальце ключи от машины. Добрых полтора часа уйдет на то, чтобы в час пик добраться до Бостона. Может, и больше. Я иду до дома сорок минут, дыхание вырывается из груди клубами пара, пальцы на ногах в моих туфлях на резиновой подошве совсем замерзли. Машина моя так проржавела, что кажется двухцветной. Подхожу к ней так, будто это чья-то чужая машина, и меня в который уже раз поражает, до чего же она уродлива. Груда металлолома на колесах. Стыд и позор садиться в такую. Крыса, болтающаяся на веревочке над рулем, гримасничает, как будто ей только что дали яда. Ржавчина особенно бросается в глаза при дневном свете.
Собираюсь сесть за руль, но в этот момент замечаю какое-то копошение у изгороди. Это енот роется в мусорном ведре. Он зацепился задними лапками за край ведра, а голова и передняя часть туловища в ведре. Кольцевидный хвостик крутится вверх-вниз, а острые коготки скребут по алюминию. Понимаю, что надо прогнать его, но круглая попка и забавный хвостик так выразительны, он так смешно балансирует на тонком крае мусорного ведра, что ужасно хочется шлепнуть его по заду.
Отойдя от машины, подхожу поближе к еноту, чтобы получше рассмотреть его зимнюю шубку. Через минуту он высовывает мордочку из ведра, в узких челюстях зажата яичная скорлупа. Он горбатый, мордочки почти не видно из-за черного меха. Заметив меня, напуганный зверек спрыгивает с ведра, но медлит: очень не хочется оставлять свою добычу. Вокруг разбросан мусор, который он успел вытащить; все-таки пытается утащить коробку из-под пиццы, но потом бросает ее и не спеша удаляется вразвалку, исчезая в кустах.
Подбираю мусор, который он успел вытащить из ведра: консервные банки из-под тунца, скомканные косметические салфетки, жирные полоски алюминиевой фольги. Куриные косточки, оставшиеся после нашей трапезы трехдневной давности, и пустая бутылка из-под яблочного соуса. Внизу, под отвратительным на вид куском заплесневелого сыра нахожу моток лейкопластыря размером с серебряный доллар. Разматываю пластырь, разрываю его, пальцы становятся липкими. Внутри тонкий пучок блестящих иголок. Вынимаю одну, осторожно зажав ее двумя пальцами, и рассматриваю полый конец. Потом, сломав пополам, заворачиваю обратно. Это игла для инъекций морфия. Виктор делал себе уколы.

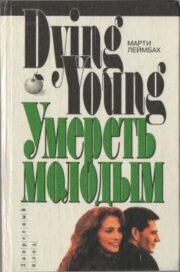
"Умереть молодым" отзывы
Отзывы читателей о книге "Умереть молодым". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Умереть молодым" друзьям в соцсетях.