На передней скамье вижу По. Опершись локтями о колени и наклонившись вперед, он разговаривает с кем-то по Фейстайму:
– Yo también te extraño. Lo sé. Te amo, Mamá.
По заканчивает разговор по телефону и закрывает лицо руками.
Я тяну тяжелую дверь, открываю пошире, и петли громко, противно скрипят.
Он оборачивается и смотрит на меня удивленными глазами.
– Часовня? – спрашиваю я, и мой голос звучит слишком громко, отражаясь от стен в просторном помещении. Иду к нему по проходу.
Он оглядывается и невесело улыбается:
– Моей маме нравится, когда я бываю здесь. Я – католик, но она куда более ревностная католичка. – По вздыхает, опускает голову на спинку скамьи. – Мы не виделись два года. Хочет, чтобы я приехал, навестил ее.
Теперь уже удивляюсь я. Сажусь напротив, через проход, на безопасном расстоянии. Два года – срок действительно немалый.
– Ты так давно не виделся с матерью? Что же она тебе сделала?
По качает головой, и в его глазах мелькает тень печали.
– Дело не в этом. Их депортировали в Колумбию. Я же родился здесь, и они не стали забирать меня с собой, потому что там нет таких врачей. До восемнадцати я официально нахожусь «под опекой государства». Вот так-то. Не могу даже представить, как такое случилось. Как можно депортировать родителей больного кистозным фиброзом? Родителей смертельно больного?
– Да, дело плохо.
По кивает:
– Мне так их не хватает.
Провожу ладонью по волосам:
– По, тебе нужно поехать! Нужно навестить их.
Он вздыхает, смотрит на большой деревянный крест, установленный за кафедрой проповедника, и я вспоминаю то единственное слово, которое понял, когда подслушивал разговор. Dinero.
– Дорого. Мама хочет прислать деньги, но не может позволить себе такие траты. А уж я, конечно, не стану отбирать у нее последнее и оставлять перед пустым столом.
– Послушай, – быстро говорю я, – если дело только в деньгах, я могу помочь. Серьезно. Не хочу выставлять себя каким-то богатеньким ублюдком, но это не вопрос… – Еще не договорив, понимаю, что из этого ничего не получится.
– Хватит. Перестань. – По поворачивается и обрывает меня взглядом, после чего лицо его смягчается: – Я… Я как-нибудь разберусь.
Мы оба умолкаем. В тишине большого открытого пространства у меня начинает звенеть в ушах. Вопрос не в деньгах. Кроме того, я получше многих знаю, что они решают не все. Может быть, когда-нибудь это дойдет и до моей матери.
– Тем не менее спасибо, – говорит наконец По и улыбается. – Кроме шуток.
Я киваю, и мы снова умолкаем. Какая несправедливость, что вот надо мной мать трясется, как курица над цыплятами, а кого-то отрывают от собственного сына. Я жду не дождусь восемнадцатилетия, считаю оставшиеся дни. По, наоборот, пытается замедлить время, потому что ему этого самого времени нужно как можно больше.
Мне так легко было сдаться, сопротивляться лечению и жить сегодняшним днем. Но теперь, рядом со Стеллой и По, время обрело большую ценность и мне дорога каждая секунда.
Вот это и пугает больше всего.
Вечером я лежу на кровати, смотрю в потолок и впервые за последнее время делаю ингаляцию без Стеллы.
Есть что-нибудь?
Сообщение приходит от Джейсона, и настроения оно не добавляет, потому что ответ на него – оглушительное нет.
От Стеллы по-прежнему ничего. Ни даже записочки. А я только и думаю о ней. И чем длиннее молчание, тем оно хуже. Ничего не могу с собой поделать: представляю, что вот я рядом с ней, что могу протянуть руку и дотронуться до нее, загладить вину.
Чувствую, как что-то поднимается в груди, в кончиках пальцев, под ложечкой. Желание коснуться гладкой кожи ее руки, шрамов на теле.
Но этого не будет никогда. Дистанция между нами останется, не исчезнет и не сократится.
Полтора метра навсегда.
Короткий двойной сигнал. Хватаю с надеждой телефон, но это всего лишь уведомление с Твиттера. В полном расстройстве бросаю телефон на кровать.
Какого черта, Стелла? Нельзя же злиться целую вечность. Или можно?
Нет, так нельзя. Нужно все исправить.
Выключаю небулайзер, выглядываю в коридор – что там, чист ли горизонт? Вижу, как Джули заходит с капельницей в одну из дальних палат, выхожу и спокойно, зная, что время у меня есть, иду мимо пустого сестринского поста и останавливаюсь у ее двери, за которой играет негромкая музыка.
Она на месте.
Перевожу дух, поднимаю руку и стучу костяшками пальцев по дереву.
Музыку выключают. Слышу приближающиеся шаги… Она подходит и в нерешительности застывает у порога.
Наконец дверь открывается…
Я вижу перед собой ее карие глаза, и мое сердце переключается в ускоренный режим.
Как же хорошо.
– Вот ты где, – негромко говорю я.
– Вот я где, – бесстрастно подтверждает она и прислоняется к дверному косяку с таким видом, как будто и не игнорировала меня сегодня весь день. – Твой рисунок получен. Ты прощен. Отойди.
Я тут же отхожу к дальней стене, обеспечивая требуемую дистанцию в полтора метра. Мы смотрим друг на друга, и она моргает, а потом бросает быстрый взгляд на сестринский пост и опускает голову.
– Ты пропустила наши процедуры.
Она, похоже, не ожидала, что я вспомню об этом, но все равно молчит. Замечаю, что глаза у нее покраснели, как будто она плакала. И вряд ли причиной слез могли стать те мои слова.
– Что происходит?
Стелла глубоко вздыхает, а когда начинает говорить, я слышу в ее голосе нервное напряжение:
– У меня сильное воспаление возле гастростомической трубки. Доктор Хамид опасается сепсиса. Завтра утром она собирается иссечь зараженные ткани и заменить трубку.
Я смотрю ей в глаза и вижу, что напряжение связано не только с нервами. Ей страшно. Так хочется подойти и взять ее за руку, сказать, что все пройдет удачно, что ничего плохого не случится.
– Я буду под общим наркозом.
Что? Под общим наркозом? С ее легкими, работающими всего лишь на 35 процентов?
Уж не рехнулась ли доктор Хамид?
Хватаюсь за идущий вдоль стены поручень, чтобы не сорваться с места.
– Черт. Уверена, что твои легкие справятся с таким? – Секунду-другую молчим, и полтора метра между нами ощущаются милями. Потом она отводит глаза и, оставив мой вопрос без ответа, говорит:
– Не забудь принять лекарство на ночь и поставить ночное питание, ладно?
Сказать что-то я уже не успеваю, потому что она закрывает дверь.
Пересекаю коридор к ее палате, протягиваю руку, кладу на дерево ладонь. Знаю, Стелла там, по другую сторону двери. Я выдыхаю, вдыхаю, прижимаюсь к двери лбом и шепчу:
– Все будет хорошо.
На двери висит табличка. Поднимаю глаза и читаю:
НИЧЕГО НЕ ЕСТЬ И НЕ ПИТЬ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ. ОПЕРАЦИЯ В 6.00.
Пока не засекли, убираю руку, возвращаюсь по коридору в свою палату и падаю на кровать. Обычно Стелла полностью себя контролирует. Что же изменилось на этот раз? Может быть, дело в родителях? Или она так расстроилась, понимая, что ее легкие могут не справиться?
Поворачиваюсь на бок, утыкаюсь взглядом в свой рисунок с легкими на стене и вспоминаю похожий в ее палате. Эбби.
Конечно. Вот почему она так разволновалась. Завтрашняя операция – ее первая без Эбби. А что, если… Меня как будто подбрасывает пружиной. Сажусь, достаю из кармана телефон и, может быть, впервые в жизни ставлю будильник на 5.00. Потом беру с полки коробку с художественными принадлежностями и приступаю к планированию.
Глава 13
Стелла
Прижимая к груди Лоскутка, перевожу взгляд с мамы на папу. Они сидят по обе стороны от меня и старательно улыбаются одними губами, избегая при этом смотреть друг на друга. Глядя на пришпиленную к двери общую семейную фотографию, думаю, как было бы хорошо, если бы все стало, как раньше, и ко мне бы вернулись родители, которые всегда говорили мне, что все будет хорошо.
Судорожно вдыхаю, пытаясь подавить кашель, и слушаю папу, который старается отвлечь, разрядить напряжение разговором ни о чем. Он берет розовый календарик, один из тех, которые разнесли по всем палатам, и просматривает перечисленные в меню кафетерия новинки.
– Сегодня на ужин крем-суп из брокколи. Твой любимый, Стел!
– Вряд ли ей разрешат есть сразу после операции, – резко реагирует мама, и папа мгновенно сникает.
– Если разрешат, обязательно попробую, – говорю я, добавляя сверхдозу оптимизма.
В дверь стучат, и в палату входит санитар в медицинской шапочке и голубых латексных перчатках. Родители поднимаются, и папа протягивает руку. Моя дрожит, и я сама едва держусь, чтобы не поддаться дрожи.
– Скоро увидимся, милая, – добавляет мама, и они по очереди обнимают меня. Обниматься неудобно и больно, но я терплю, не хочу расставаться.
Санитар поднимает и защелкивает поручни на каталке и выкатывает меня в коридор, а я смотрю на рисунки Эбби. Больше всего на свете я хотела бы видеть ее здесь, чтобы она держала меня за руку и напевала песенку.
Лица родителей меркнут вдалеке, а мы, проехав до конца коридора, въезжаем в лифт. Створки закрываются, санитар улыбается, и я пытаюсь сделать то же, но губы меня не слушаются, не складываются как надо. Пальцы сжимают простыню.
Двери лифта открываются со звонком, знакомый коридор проносится мимо, и я уже в другом, где все слишком яркое, слишком светлое, так что детали не разобрать.
Мы проезжаем тяжелые двойные двери, попадаем в предоперционную, а потом в другое помещение. Санитар ставит каталку на место.
– Нужно еще что-нибудь, пока я не ушел?
Я качаю головой и стараюсь отдышаться. Здесь совершенно тихо, если не считать попискивания приборов и мониторов.
Смотрю в потолок и стараюсь не поддаться грызущей меня изнутри панике. Я все делала правильно. Была осторожна, пользовалась фуцидином, принимала лекарства согласно расписанию и тем не менее лежу здесь и жду операции.

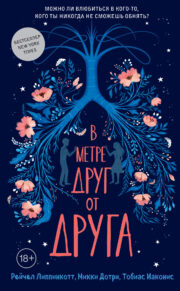
"В метре друг от друга" отзывы
Отзывы читателей о книге "В метре друг от друга". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В метре друг от друга" друзьям в соцсетях.