— Но ведь отчасти это правда…
— Тебе было семнадцать, Джеймс. Я же прекрасно понимал, что Памела сделает все, чтобы показать мне, какая она неотразимая и желанная и как я ошибаюсь, отвергая ее. Я уже сказал, что задал тебе тогда неверный вопрос, теперь я корю себя за то, что вообще стал о чем-то спрашивать. Эта ведьма просто воспользовалась тем, что ты был пьян, а возможно, и одурманен ее зельем, — сказал Люк с отвращением. — Теперь все в прошлом, забудем об этом, брат.
— И все? — с недоверием спросил Джеймс. — Я могу считать себя прощенным?
— Может, тебе станет легче, если я скажу, что мы оба уже достаточно выстрадали, пора покончить со всем этим и забыть.
— Я был обязан побороть желание и заставить ее уйти, — не сдавался Джеймс.
— Ни одному семнадцатилетнему это не под силу, — с грустной улыбкой проговорил Люк, вероятно вспомнив себя в этом возрасте. — Забудем обо всем, Джеймс, настало время себя простить. Ты не должен чувствовать себя изгоем, испытывать чувство вины. Все в прошлом, — повторил он, сжимая руку брата. — Понимаю, это будет стоить тебе огромных усилий, потому что по натуре ты упрям и склонен к фарсу и театральности. Весь в свою мать.
Джеймс не смог удержаться от смеха, когда услышал любимую фразу мамы, повторявшей ее всякий раз, когда Люк делал что-то не так, а это случалось очень часто. Тяжкое бремя упало с его плеч, а слова брата показались действительно смешными. Как приятно было смеяться вместе впервые за много лет отчуждения и боли.
Глава 8
Ровена с опаской взглянула на огромное окно спальни старого лорда. Щеки горели, пальцы подрагивали. Она не представляла, как ей успокоиться.
Лучше бы она ничего не слышала.
Выйдя из спальни, Ровена открыла тяжелую дубовую дверь и выскользнула в сад, надеясь побыть в одиночестве. Опустевший осенний парк был лучшим местом, чтобы обдумать предложение Калли и Гидеона. Жизнь, которую они вели, была им привычна, но для нее все будет ново. Сможет ли она быстро привыкнуть к этому дому?
Ровена сложила руки перед собой, как трагическая актриса перед главным монологом, размышляя, как поступить. Нельзя поддаваться мыслям о том, что она только сейчас слышала, хотя они и вытесняли все прочие тревоги. В комнате стало тихо. Должно быть, братья молчали, погрузившись каждый в свои думы, или виконт вышел, оставив Уинтерли, чтобы тот мог осмыслить разговор в одиночестве. Ровена сидела, боясь пошевелиться, и размышляла, как поступить. Должна ли она обнаружить свое присутствие и принести извинения за то, что невольно услышала? Но как могла так поступить эта чертовка с бедным мальчиком? Негодуя, Ровена покачала головой и тут же замерла, боясь, что даже такое движение может ее выдать. Как же ей теперь смотреть в глаза мистеру Уинтерли, зная, что ему пришлось пережить в семнадцать лет, и не краснеть до корней волос? Она подумала о своих братьях и ужаснулась тому, что какая-то порочная женщина может и с ними так поступить. Она была достаточно взрослой, к тому же вдовой, потому отлично знала о тайных мыслях и желаниях юношей. И все же получать что-либо силой или хитростью казалось ей унизительным и недостойным любого человека, как женщины, так и мужчины.
Ровена вздрогнула, когда воображение напомнило ей ощущения, испытанные в те моменты, когда Нейт впервые проигнорировал ее отказ исполнить супружескую обязанность. Она чувствовала себя беспомощной, беззащитной, когда муж взял ее, несмотря на протесты. Тогда он наслаждался близостью, кажется, больше обычного. Принуждение позволило ему почувствовать себя сильным и могущественным. Сейчас, оглядываясь назад, она испытывала к мужу лишь жалость и… отвращение, но к покойной Памеле Уинтерли она не могла проникнуться сочувствием.
Эта женщина была виновата в том, что посмела разрушить мечты и надежды юноши, рассорила братьев, сломала их жизни. И если Люк Уинтерли нашел в себе силы простить ее и жить дальше, то Джеймс Уинтерли до сих пор не оправился от невольного предательства.
Сердце Ровены охватило сочувствие к бедному юноше, который, движимый чувством вины, бросился в пучину рискованных приключений.
Так и не познав за годы брака ни истинной любви, ни жаркой взаимной страсти, Ровена нашла бы в себе силы понять эту женщину, если бы та бросилась в объятия брата мужа, движимая плотским желанием. Однако ее вела другая страсть — месть. Но за что она мстила? Видимо, за то, что лорд Фарензе не хотел больше быть ее мужем. Как наследник титула, Люк был завидной партией; когда Памела выходила за него, вряд ли он мог позволить себе отвергнуть женщину, даже разлюбив ее. Ведь они с братом так похожи…
Перед мысленным взором Ровены встал образ Джеймса Уинтерли — пристальный взгляд его серо-зеленых глаз, загадочная полуулыбка «византийского принца», изысканный аромат одеколона… Зажмурившись, Ровена прогнала пленительное видение, поспешив напомнить себе, что ей нет дела до Уинтерли. Она не ищет себе мужа, к тому же она не единственная женщина в окружении Джеймса, едва ли он выберет ее, решив обзавестись семьей.
Что же касается Памелы, несмотря на охлаждение мужа, она не имела права использовать его брата в своих целях и бросить, обрекая на годы стыда и самобичевания. Сердце сжалось от боли. Первой мыслью было броситься к Уинтерли, обнять его, погладить по голове, как маленького мальчика, и объяснить, что он ни в чем не виноват, он очень хороший, лучше, чем считает.
Ровена потерла лоб, досадуя на себя. Господи, что за глупости лезут ей в голову? Уинтерли не был таким, каким, возможно, себя считал, но ему ни к чему ее жалость! Сейчас надо думать о себе и скорее уходить, пока никто не узнал, что она была здесь. В комнате было тихо, мог ли Уинтерли заснуть? Доктора Харбери это порадовало бы. Она едва не задохнулась, вспомнив, какие страшные последствия предрекал врач, если пациент не проведет несколько дней в постели. У этого джентльмена просто железная голова, несомненно, он захочет уйти, как только добрая душа принесет ему одежду.
— Вот и твой завтрак, — раздался за толстыми гардинами голос лорда Фарензе.
— Уже лучше. Поставь сюда, Хаддл, и ступай, если только не решил ослушаться моего брата-лорда и принести мне мои бриджи.
— Э-э-э…
— Я так и думал, что ты не захочешь так поступить. Иди, пока я не разбил эту чашку о твою голову.
— Да, сэр, — произнес Хаддл с усмешкой, которую уловила даже Ровена.
— Картонный тигр, — хохотнул лорд Фарензе.
— Ты ведь никому не расскажешь? — подмигнул ему Джеймс, обозревая поднос с тем, что удалось заполучить от кухарки. — И не воруй у меня тосты! — воскликнул он.
Ровена вздохнула с облегчением, слушая, как братья в шутку пикируются и обсуждают завтрак, если так можно назвать трапезу в это время дня.
— Намного лучше, — произнес Джеймс, уничтожив все до последнего кусочка не без помощи Люка.
— Что будем делать со второй твоей маленькой проблемой? — спросил брат, словно о Памеле больше не было смысла говорить, что, впрочем, возможно, было верным решением.
— Да уж, маленькой.
— Конечно, это не так, но мы ведь знаем твою склонность все драматизировать и преувеличивать?
— Ее не решить театральными жестами и пафосными речами.
Джеймс опять задумался о том, какие неприятности он может принести родным, если немедленно не уедет и позволит помочь.
— Тогда рассказывай. А потом все объяснишь и Гидеону. Тебе пора понять: проблемы одного касаются нас всех.
Джеймс не хотел становиться причиной головной боли родных, но Люк был прав: одному ему не справиться. Он много лет старался, чтобы семья не узнала о другой стороне его жизни. Всякий раз, приезжая на континент, он надевал маску, под которой его невозможно было узнать, при всех передвижениях тщательно запутывал следы. Лишь три человека знали его в обоих обличьях, теперь их станет четверо, включая Люка. Двое других были преданы их делу, хотя любого человека можно купить, если назначить правильную цену. Возможно, он просто устал от идей, вбитых ему в голову Бовудом и его отцом. Сейчас Джеймсу больше всего хотелось забыть обо всем и отдыхать, к чему призывали его врач и Хлоя. Он мечтал провести некоторое время в покое, прежде чем окажется в руках своих врагов.
— Обещай, что ты расскажешь об услышанном только Гидеону и возьмешь с него слово хранить тайну. — Похоже, в нем навсегда укоренилась привычка соблюдать секретность.
— Тебе неизвестно, что такое настоящий брак, Джеймс. Я не могу обещать тебе, что Хлоя и Калли ничего не узнают.
— Я не желал и вас вводить в курс дела.
— Поздно. Я твой брат. Гидеон и Том тоже родственники, благодаря мудрости Вирджинии, так что тебе больше не удастся держать нас на расстоянии.
— Что ж, очень хорошо, только не забудь, что я не желал посвящать тебя в тайну. Полагаю, нет нужды напоминать, сколько раз ты выручал меня в Оксфорде. — Джеймс все еще надеялся избежать неприятного разговора.
— Я оплачивал твои долги и предлагал оплатить последний, но ты поклялся, что лучше будешь просить милостыню, но не примешь от меня ни пенни.
— Зная о наших прохладных отношениях, один человек из Оксфорда пригласил меня провести лето у него. Тогда мне еще не было известно, что его отец возглавляет организацию, которая как кость в горле у правительства.
— И он завербовал тебя в восемнадцать? Как плохо, что я тогда об этом не знал, надо было немедленно все прекратить.
— Я ведь был вторым сыном, что мне оставалось делать? Стать священником или уйти в армию? Меня привлекала мысль стать шпионом; риск, приключения — тогда мне все это нравилось. Этой весной я внезапно понял, что мне все надоело. Впрочем, меня не интересует и наследство, которое можно получить, лишь выполнив условия Вирджинии.

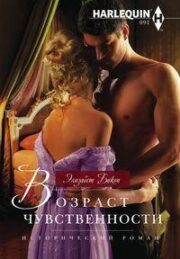
"Возраст чувственности" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возраст чувственности". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возраст чувственности" друзьям в соцсетях.