– Мне хватит на бутылку «Асти» и еще останется.
Бахти прикатила ко мне, встав одной ногой на тележку и отталкиваясь второй.
– Я взяла три советских шампанских!
Я нахмурилась, Бахти взяла меня за плечи.
– Слушай, слушай: «Асти» в животе уже есть, так? У нас было три «Асти». Три на двоих – это по сколько выходит?
– Три на два не делится, – уверенно ответила я.
– Тогда знаешь как получается: у тебя две трети «Асти» и всего одна треть будет советского шампанского, а у меня – одна треть «Асти», и еще, знаешь, я думаю, надо взять маринованные огурцы.
– Мы должны все посчитать на калькуляторе до того, как идти на кассу, – настаивала я, не в состоянии прикинуть, хватит ли мне.
– У меня нет калькулятора, – сказала Бахти, айфон торчал из кармана джинсов. Она положила в тележку огурцы, стеклянная банка стукнулась со звоном о бутылки. – У меня был калькулятор на ЕНТ, но я его забыла в аудитории, где мы сдавали, так обидно. И главное, я говорю охраннику: я забыла калькулятор на четвертой парте, можно, я, пожалуйста, заберу? Он такой: ни фига, гуляй. Это вообще ужасно обидно, когда у тебя только что было твое, а потом ты стоишь перед дверью и тебе говорят: вали давай. И ты уходишь, и такое ощущение, что можно еще развернуться и свое забрать, но ты продолжаешь идти по коридору – и все.
Мы проснулись утром на полу гостиной, потолок надо мной уже не кружился, но голова определенно весила больше всего остального. Со стоном я приподнялась на локтях и кое-как прителепалась в ванную. И блевать уже поздно, и тошнит зверски, и одна за другой, как маленькие балеринки выбегают на сцену, ко мне прибежали все безжалостные мамины слова.
– Кора. – Бахти зашла в ванную и направила холодный душ себе в лицо, попутно забрызгивая все вокруг. – Ты помнишь, что сегодня надо знакомиться с парнем Анели?
– О нет. – Я совершенно забыла про Чингиса.
– Мы должны пойти, – сказала Бахти.
– Да, должны.
– Несмотря на то, какая у Анели сука мать?
Я забрала у Бахти душ и точно так же намочила лицо.
– Дети не несут ответственность за поступки родителей, – ответила я со всем великодушием, которое еще сохранилось в моем обезвоженном, упившемся существе.
Но мы не пошли на встречу с Чингисом. Нам было настолько плохо, что я как легла на кровать, прильнув лбом к стенке, так и не смогла встать до глубокой ночи – а Бахти лежала в коридоре на своем пуховике, чтобы было быстрее добираться до ванной.
Анеля безуспешно звонила нам на постепенно разряжающиеся телефоны, и где-то там в шумном зимнем мире Чингис говорил ей, что люди, которые не уважают других, не уважают в первую очередь себя.
Глава 17
Мама, оскорбленная моим отказом подшить Ермеку Куштаевичу его новые джинсы, на время так ко мне охладела, что вообще перестала звонить. Считая себя обиженной стороной, она думала, что ее молчание пристыдит меня лучше любых упреков и я позвоню ей сама и принесу извинения.
Я догадываюсь, почему мама никогда не устает от общения: она совсем не понимает, что чувствуют другие люди, она переживает всегда только свои эмоции и никогда – чужие. Думая о других, она не стала бы вспоминать, что им свойственно, а значит, чего от них следовало бы ждать – она просто ждала того, чего хотела сама. Мама не заморачивалась анализом исторического тренда и не проследила, что я никогда – никогда – не звонила ей первой после размолвки (и не начинала с ней снова разговаривать, когда мы жили под одной крышей). Я не звонила ей первой потому, что я хотела, насколько это возможно, продлить период разобщенности. Мама не выдерживала и выходила на связь сама: либо она устраивала еще большую ссору, энергозатратный для меня, но предпочтительный вариант, суливший дополнительную пару недель покоя, либо делала вид, будто все в порядке, втайне надеясь, что я сама подниму разговор о своем поведении, не заслуживающем ничего, кроме порицания, либо подсылала ко мне Гастона – странный выбор гонца с учетом моего к нему отношения, – а впрочем, да, снова забыла, она так и не могла, искренне не могла понять, что я его всерьез не люблю, как не могла понять, за что и возможно ли подобное. Я не могу сказать, что я ненавидела Гастона, но он был мне глубоко неприятен: он заставлял меня хуже относиться к миру. Гастон так сердечно представлял меня своим новым друзьям и знакомым, что им не приходилось сомневаться, что я ему родная младшая сестра. Он присылал мне букеты на день рождения и 8 Марта, он не забывал привезти мне сувениры из каждой поездки, но я точно знала: это отношение не ко мне, это его понимание того, как положено. Сама по себе я ему неинтересна и не близка, и не поженись наши родители, встреться мы с ним при любых других обстоятельствах, я была бы ему такой очевидно чужой, а все, что ему чужое, ему противно, что он не проявлял бы ко мне и минимального уважения. Он считал бы, что я высовываюсь, что во мне нечего уважать.
На этот раз она выбрала последнее. Гастон заехал ко мне в ателье, когда я с жуткой скоростью шила новой клиентке все белье для ее путешествия – она ехала отдыхать с перспективным бойфрендом и заказала мне все, действительно все – пеньюары и удлиненные лифы, корсеты, шорты и пояса – за считаные дни до поездки. В другой момент я указала бы на невыполнимость ее желания в настолько сжатые сроки и предложила бы уменьшить заказ втрое (и это было бы все равно немало), но сейчас я отчаянно нуждалась в деньгах и на все согласилась.
Я не отвечала Гастону на звонки и сообщения, у меня не было на это времени, но я не ожидала, что он ко мне притащится.
– Я тороплюсь, – сказала я Гастону, не впуская его внутрь (мой звонок наконец пригодился). – Говори и вали.
– Бедная твоя мама, – презрительно ответил Гастон. – Я бы на ее месте тебя не прощал, но у нее слишком большое сердце.
– Быстрее, – ответила я.
– Мама позвала тебя в воскресенье на обед. Она хочет тебе помочь. – И он потер большим пальцем средний и указательный.
Господи, неужели она даст мне наконец денег?
Когда мне только присудили штраф, я назвала маме сумму – без больших надежд, скорее с желанием пронять ее большое сердце или показать, что я в состоянии заплатить и такой долг. Она выразила уверенность, что это станет мне уроком на всю жизнь, и добавила, что всецело согласна с решением судьи.
– Бота ее подкупила, – сказала я.
– Ты держала свечку? – ответила мама, и так мне стало неприятно, что я и не думала просить у нее помощи.
Это было совершенно в ее духе, ничего неожиданного: мама всегда присоединялась к тем, кто устраивал травлю на меня. И все же мне хотелось, могла я в этом признаться или нет, чтобы она была на моей стороне. Чтобы она перестала здороваться с родителями Боты, чтобы сказала мне, что я не заслужила этого, и если – если даже заслужила, если даже я возмущаю общественную мораль или способствую разложению этого поганого общества, если даже я сама, сама во всем виновата, даже в этом случае она никогда ни в чем меня не обвинит, потому что она любит меня, потому что ей нравится все, что я делаю. Она часто напоминала мне, что она моя мать – чтобы я не смела повышать на нее голос или чтобы слушалась ее. Так вот, мне хотелось, больше всего во всем этом хотелось, чтобы она обнаружила: если она моя мать, стало быть, я – ее ребенок.
Пожалуй, в последнем и заключалась проблема. Ей не нравилось, какой ей достался ребенок. Сейчас на меня набросились бы псевдопсихологи со словами, что у моей матери какие-нибудь там проблемы с материнством, и она не принимала бы ни одно существо, вышедшее из ее собственного живота, но нет. Я посвятила последние двадцать лет изучению ее поведения, ее желаний и реакций, и я говорю это серьезно: ей не нравлюсь именно я. Начнем с того, что она хотела бы мальчика, а если уж так не повезло и явилась девочка, то она еще могла бы полюбить стройную девочку, достаточно сообразительную, чтобы работать в большой корпорации, и достаточно глупенькую, чтобы не задавать лишних вопросов ни себе, ни ей, ни начальству, ни мирозданию.
Ее бесило во мне все.
Я поняла, что окончательно выросла, когда в моменты несправедливости прекратила воображать себе собственные похороны и стала визуализировать чужие. Долгие годы, когда мама незаслуженно доводила меня до слез, я представляла себе ее раскаяние и вечную, невосполнимую утрату, которую ей придется понести, как придется осознать, что я была хорошим человеком и чудесной дочерью, а уж в каком безупречном порядке я хранила все свои вещи – можно переложить в красивый пакет и передарить с чистой совестью.
Как только я пришла на обед – ни Гастона, ни Ермека Куштаевича, ни собственно обеда не было, – как только мама открыла мне дверь, я поняла, что она позвала меня не для того, чтобы помочь. Она позвала меня, чтобы упрекать. Я была маминым недостатком, ее неприятной особенностью, тем, что в плохом смысле выделяло ее среди ей подобных. Ее бесфамильные родители не дали ей возможности щеголять семейными связями: дети обязаны были компенсировать это. С одной стороны находился безупречный Гастон, с другой – я, ставящая ее в неловкое положение. Ей хотелось, чтобы Гастон был ее родным сыном, и она относилась к нему как к родному.
Когда она выходила замуж, я небезосновательно надеялась, что она наконец отстанет от меня и я утрачу бремя ее неусыпной бдительности и многослойного осуждения. Но мама была многорукой и адски энергичной, и Ермек Куштаевич оказался такой же доставучей ханжой, как она, к тому же он был почти не занят своей бесполезной, почетной работой. А еще он не матерился и не курил, отчего досрочно отвел себе место в сонме святых.
Мама начала издалека – показывала мне фотографии детей ее друзей, которые благодаря работе в хорошей фирме то и дело ездят в заграничные командировки, а потом продлевают их в счет отпуска и «видят мир». Я была знакома со многими из них. Они противопоставляли статусные вещи, понты и потребление путешествиям, утверждая, что путешествия – это настоящая жизнь, и в любой момент, как подвернется случай, надо срываться и мчаться куда угодно и обязательно чувствовать себя счастливым в поездке. Они романтизировали физические передвижения – может, из-за Жюля Верна, может, из-за сказок о Синдбаде Мореходе, из-за Колумба и Магеллана – а может, и я сейчас романтизирую их романтичность и ни о каком парусе и киле, и плоте и дирижабле они даже не думали, но дело вот в чем: путешествие само по себе не является чем-то особенным или по умолчанию положительным. Вместо того чтобы заставлять душу трудиться, они заполняли пустоту потреблением непрочувствованных путешествий. Они не растили свой сад, они просто привозили на бетон взращенные чужими руками цветы, те вяли, и они привозили новые.

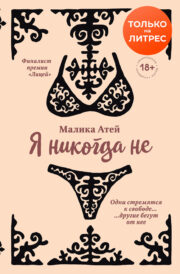
"Я никогда не" отзывы
Отзывы читателей о книге "Я никогда не". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Я никогда не" друзьям в соцсетях.