Козьма Демьяныч поднял стрелу и передал Мирону.
– Гляньте, – прошептал он, – самая убойная. Со смещенными лопастями. В полете вращается и непременно попадает в цель. Так что не промазала узкоглазая рать. Припугнули на всякий случай.
Мирон внимательно осмотрел стрелу. Хвостовая часть ее из орлиных перьев и украшена двумя яркими полосками красного и синего цвета. Железный, в три лопасти наконечник прикреплен к древку обмотками из тонких жильных ниток. Под ним – костяной свистунок с дырочками. Нехитрая штука, но жутким воем страху нагнала будь здоров!
– Орлиное перо у здешних народов пуще золота ценится, потому как не намокает, – снова пояснил Сытов. – Кыргызскую стрелу с мунгальскими да калмацками не спутаешь. Те чуть более аршина, а кыргызские на ладонь длиннее. Да и луки у кыргызов сильнее…
Голова не закончил объяснение. Другое зрелище привлекло их внимание. На смену лучникам выехали на поляну те самые всадники с тяжелыми копьями и мечами и выстроились в две длинные, друг против друга, и плотные, стремя в стремя, шеренги.
– Непременно копейный бой покажут, – покачал головой Сытов. – В этом кыргызы великие мастаки!
И впрямь конники начали разгон, пустив лошадей шагом, затем перешли на рысь и только за несколько десятков саженей бросили их в галоп. Низкий, протяжный рев сопровождал этот бросок. Словно огромный барс исторг рык – низкий, угрожающий, который растекся над степью, приводя в трепет все живое. Нет, не один барс, сотни барсов зарычали раскатисто. И вмиг притихла степь, как перед грозой, перед страшной бурей…
– Что это? – почему-то шепотом спросил Мирон.
– То оне горлом ревут, – совершенно спокойно ответил голова, – чтоб врага застращать. Когда лавой идут – жуть продирает, так вопят.
Но Мирон уже во все глаза смотрел, как атакуют друг друга копейщики. Одни – держа копье под мышкой, вытянув ноги и уперев их в стремена, другие, ухватив древко двумя руками и подняв его на уровень подбородка. В этом случае узда крепилась к поясу или к передней луке седла.
«У-э-э-эх! Э-эх!» – тяжело вздохнула и выдохнула степь. Это конники Эпчей-бега сошлись в ближнем бою. Пыль поднялась до небес, и в этом мутном месиве люди и кони сбились в один огромный живой клубок – воющий, рычащий, визжащий и улюлюкающий. Летели из-под копыт камни и клочья дерна, трещали то ли кости, то ли копья, хрипели кони и люди, звенели мечи и лязгали сабли…
– Кыргызы исстари на коне, с мечом да луком. Мы привыкли побеждать верхом, – приговаривал Эпчей с гордостью, наблюдая за схваткой своих воинов.
Воевода качал головой да поглядывал на Мирона: дескать, видал, на что способна дикая сила? У Мирона же захватывало дух от увиденного.
Затем пришел черед конных скачек, потом сошлись борцы, которые принялись кидать друг друга на траву и бросать на дальность тяжелые камни.
Воевода хмыкал озадаченно, хмыкал, затем взял да и махнул сотнику:
– А ну, Петро, покажь выучку!
Казаки тоже скакали на лошадях и, бросив шапки вверх, попадали в них из самопалов и кремневых пистолетов. А затем пришел черед луков. И здесь казаки ни в чем не уступили хозяевам, а в меткости даже превзошли кыргызов. Поставив посреди поляны шест, они промчались мимо него во всю прыть, выпустили по несколько стрел, и ни одна не прошла мимо цели, хотя шест был в два пальца толщиной да вдобавок раскачивался из стороны в сторону от ветра.
Теперь уже кыргызы охали и вопили от восторга. Даже танцоры, как пояснил Сытов, то были жрецы-язычники, по местному – камы, пришли в себя и пробились в первые ряды зрителей.
А еще гости показали хозяевам чудеса верховой езды. Особенно старались два черноволосых и горбоносых казака-черкаса. Они не только метко стреляли в цель при скачке на полном карьере, но, нагнувшись с седла к земле, чертили по ней рукой или мохнатой шапкой.
Промчали по кругу раз, другой… И тут черкасы приоткрыли чуток казачью хитрость – «отвагу», которую Мирону довелось видеть в приазовских степях. Неповторимое, восхитительное зрелище. Нырок вправо, и всадник мигом зацепился ногами за стремена, связанные под животом лошади. Голова его болталась возле задних копыт, а закинутые руки почти касались земли. Обычная боевая уловка, чтобы подстегнуть неприятеля поймать коня и обыскать убитого. А «мертвец» в это время удачно стрелял из-под живота или вдоль лошади, или, вскочив неожиданно в седло, не менее ловко орудовал саблей или короткой пикой…
В Краснокаменск возвращались, когда зарево заката уже запылало над дальними горами. Глухо шумела тайга. Ветер гулял по вершинам деревьев. Усердствовала желна над полусгнившим пнем; кедровка сопровождала всадников, перепархивая поодаль с ветки на ветку, – не птица, а божье наказание и для охотника, и для воина: не даст подкрасться незаметно, предупредит пронзительным криком. Кони фыркали, прядали ушами, шли неспокойно. Тайга была полна затаившейся жизни. И они чуяли ее.
Воевода ехал с довольным видом и помалкивал, но на другой день гонец повез втайне от Мирона важную грамоту на царское имя.
Глава 13
Под утро вскрылась река. Простонала тяжело, как роженица, и вздохнула мягко, умиротворенно, словно освободилась от бремени. Сначала лед шел сплошняком, а затем стал ломаться, разбиваться на огромные льдины – с треском и громовым грохотом. Не знаешь – запросто подумаешь: вражья канонада. На мелководье льдины лезли друг на друга, выпирали на берег. Детвора, старики, бабы высыпали на косогор, но вскоре разошлись. Не до пустых гляделок на этот раз. Ледоход приближал беду, о которой в городе знали все: даже слепые и глухие, даже сыкуны-младенцы.
Вторую неделю кряду служивый и работный люд Краснокаменского острога пребывал в большой тревоге и озабоченности. Промысловики и лазутчики, что по нехоженой тайге и кыргызским степям доходили до Саян-камня и Алтайских гор, приносили плохие вести.
Строгие дозоры объезжали встреч друг другу ближние и дальние подступы к городу. Караульные на башнях не сводили глаз с низких холмов к юго-западу от острога, из-за которых обычно появлялась кыргызская конница. Но сейчас она была лишь частью огромного войска, с которым краснокаменцам встречаться еще не приходилось, а вот о боевой мощи его наслышаны были многие. И если верить баюнам, то сила к острогу двигалась страшная, против которой, как ни крути, не выстоять.
Потому и ратные люди, и жители посада, и ремесленных слобод, и окрестных деревень не покладая рук крепили бревенчатые частоколы, чистили и углубляли рвы, пускали в них воду из речек, бежавших с гор. По-за рвами раскладывали пни да коряжины, били новый «чеснок» – острые колючки из железа и лиственницы, ставили рогулины, частик, городили надолбы и рыли ямы-ловушки…
Работали все от мала до велика, от первого богатея-купца до последнего пьяницы-бобыля и днем, и ночью при свете костров. И здесь уж было не до бунтовства и личной выгоды. Если враг захватит острог, небо всем сожмется в овчинку. И больным, и старым. И бабам, и детям. А защитникам города в первую голову.
Пушкари драили пушки и считали заряды. В кузнях рубили болты для самострелов. Подростки таскали камни к подножию частоколов, чтобы сбрасывать на головы врагу. Бабы рвали тряпки на длинные ленты для перевязки раненых и щипали корпию. Старики заливали смолой бочки, а дети и старухи крутили соломенные жгуты, чтобы поджечь смолу, коли нужда случится. А то, что нужда случится, в этом уже никто не сомневался.
В съезжей избе за копейку расходились грамотки-заговоры от стрелы и от пули: «Пошла струя, как быстрая река, падал плод дерева, как дубовая кора. И кто эту молитву переймет и на бумагу белену спишет, то тому человеку будет честно и радостно, того человека никто не может спобедить-спогубить…»
Стрелецкий майор втрое усилил караулы возле пороховых погребов и оружейных амбаров. Ополченцы приглядывались к бердышам и ослопам, коротким копьям-сулицам и крючьям, выданным из крепостного арсенала, а кто-то привычно вооружался вилами, топором да чугунной гирькой на цепи.
Скот отогнали в дальние урочища. Поля стояли невспаханные, незасеянные. К чему пахать и сеять, если все истопчет, изроет копытами вражья конница?
Работа кипела не только в Краснокаменском остроге, но по всему уезду. Во всех острожках и зимовьях по приказу воеводы укреплялись частоколы и заплоты. По лесным дорогам и переправам рубили засеки. Забивали надолбы и «чеснок», разбрасывали рогульки, заваливали камнями и стволами деревьев узкие горные тропы, где конники могли передвигаться только по одному. Устраивали хитроумные ловушки, хоть и понимали: боя не избежать. А в крошечных гарнизонах топили бани, готовили чистое исподнее. Положено так православному человеку – встретить смерть с чистой душой и чистым телом. Помощи ждать было неоткуда, но просто так, задешево, отдать жизнь на растерзание врагу никто из служивых людей не собирался.
…Все готовились к отпору, даже писцы в съезжей избе примеряли бехтерцы и юшман [41] Один Мирон день-деньской сиднем сидел на лавке за длинным столом, обложенный с двух сторон толстенными ясачными, таможенными и податными книгами. По приказному управлению ему предписывалось просмотреть наличие всех государевых грамот. По военному – обследовать укрепления острожные и крепостные и приказать, чтобы их поправили в случае надобности; отметить по учетным записям наличие и сохранность пороховых запасов, свинца, пушечных снарядов, ядер, ружей и сабель; пересмотреть налицо и по книгам детей боярских, литовцев, черкасов, атаманов, казаков, стрельцов и всех служилых, в числе которых состояли немцы и татары. По казенному управлению – ревизовать денежную казну по книгам, а также освидетельствовать мягкую рухлядь во всех статьях и проверить количество связок всякого меха по ясачным запискам. По управлению земскому нужно было доглядеть налицо и по книгам пашенных крестьян и обывателей. Кроме того, негласно разузнать, не закупали ли воевода и письменный голова для себя в городе или в уезде хлеб да мягкую рухлядь через родственников, служащих или посторонних угодников для поживы, не варил ли кто в тайне от казны пиво и мед на продажу…

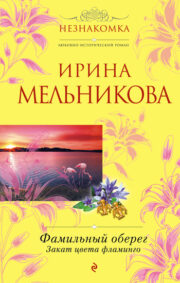
"Закат цвета фламинго" отзывы
Отзывы читателей о книге "Закат цвета фламинго". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Закат цвета фламинго" друзьям в соцсетях.