Она чувствовала себя не в своей тарелке, и была несведуща в религии, и точно не была по-настоящему верующей, иначе бы столько не нагрешила, и ее жизнь сложилась бы иначе. И только здесь поняла, насколько сложны и запутанны дела Божьи, к коим Бог имел отношение весьма отдаленное. А вернее сказать, не имел.
Монастырь этот относился к РПЦЗ – русской православной церкви зарубежом, которая объединила большую часть духовенства, оказавшегося в изгнании после революции. В Советском Союзе РПЦЗ рассматривалась как контрреволюционная монархическая антисоветская группировка. В начале третьего столетия у зарубежников начался раскол и в 2007 году большая их часть отошла все-таки к Московской патриархии. И в храме Христа Спасителя был подписан акт о каноническом общении, гласящий что «РПЦЗ пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью Русской Православной Церкви».
Но монастырь, в котором находилась Марина, остался верен прежней линии РПЦЗ и не присоединился к Московской патриархии. Служители во главе с владыкой считали, что только их церковь есть самая правильная и настоящая. Аргумент приводился железный: не могут созданные при советской власти церкви быть домом божьим по одной причине – десять из девяти иерархов были завербованы КГБ. Некоторые еще в семинарию отправлялись покровителями в погонах. И по окончании им уже намечена была видная церковная карьера. Для таких «духовных» служителей главной целью было обретение шоколадных мест, движимых «не любовью к Иисусу, а к хлебу кусу». Все это Марина узнала сегодня со слов владыки.
– А есть документальные подтверждения этих фактов? – спросила Марина.
Мать-игуменья осуждающе покосилась на нее.
– Безусловно, есть, – ответил владыка. – Доказательства всплыли после августа девяносто первого года, когда был открыт архив КГБ. Но мы и без этого знали, что православная иерархия подчинялась советской власти. Мы, свободная церковь, не принимавшая участия в преступлениях коммунистов против своего народа, и не замарана доносами. Поэтому все больше прихожан выбирают нас.
За обедом Марина узнала много нового от владыки и даже вступила в дискуссию с ним, отстаивая свою точку зрения, игнорируя испуганные глаза матушки и ее выразительные жесты, когда гостья со свойственной ей горячностью спорила, что экстракорпоральное оплодотворение – это не преступление, а Божье допущение для тех несчастных матерей, которые лишены были по разным причинам возможности естественным путем забеременеть.
– Я не принимаю рабское «Бог не дает». Почему он дает детей алкоголичкам и наркоманкам, чтобы те вышвыривали своих детей на помойки? А психически и нравственно здоровые женщины после чернобыльской катастрофы, после болезни получают внематочную беременность одну за другой и как следствие становятся бесплодными! Откуда у церкви такая нелюбовь к этим женщинам? Если ученые нашли возможность, как осчастливить женщину материнством, то я считаю, это Бог допустил и разрешил, а значит, и церковь должна принять.
Владыка был непреклонен. Его можно понять. И Марина поняла, перейдя снова неудачно на другую тему. Сегодня, в праздник святого Серафима Саровского, она вспомнила о другом святом, мощи которого покоятся в крымском кафедральном соборе. Много лет назад, узнав о нем, Марина долго находилась под впечатлением. Жизнь и судьба доктора, профессора медицины, архиепископа Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича вызывает уважение и поклонение. Ставший священнослужителем в советские времена, он единственный в истории священник, державший в руках скальпель, оперировал и читал лекции с крестом на груди. В 1923 году священник был пострижен в монашество и посвящен в епископы с именем Лука. Но после первой же архиерейской службы к его дому подъехал «черный ворон» – так начался его одиннадцатилетний период скитания по тюрьмам и ссылкам. И там он продолжал лечить и оперировать подручными средствами – с помощью перочинного ножа, слесарных клещей, зашивая рану женским волосом… Когда началась война, он отправил телеграмму председателю Президиума Верховного Совета Калинину: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».
Он был награжден бриллиантовым крестом на клобук от Патриарха всея Руси, Сталинской премией за научные труды, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Однако автора 55 научных трудов по анатомии и десяти томов проповедей продолжали травить и после войны, и он снова вернулся в ссылку! Он чувствовал присутствие Бога в своей жизни и ничего не боялся, ничего не страшился, ни от чего не уклонялся. Но мужественно и с любовью к людям и в мире осуществлял свое служение. В юности Лука великолепно рисовал и, окончив сначала гимназию, а затем художественную школу, готов был поступить в Петербургскую академию художеств. Он мечтал стать художником, но во время вступительных экзаменов им овладело сомнение: вправе ли он заниматься тем, что ему нравится, когда вокруг столько страждущих, требующих помощи? И он поступил на медицинский факультет Киевского университета. Молодой врач по окончании университета получил диплом с отличием. Он был уникальным хирургом и ученым. Святитель Лука делал операции на глазах, на печени, на желудке, на позвоночнике, гинекологические операции, трепанацию черепа. По его учебникам и в третьем тысячелетии учатся студенты. Валентин Феликсович умер 11 июня – в День Всех Святых в 1961 году. Три дня не иссякал поток людей к гробу владыки и врача, а в день похорон процессия растянулась на три километра. Затем стали поступать сообщения, что многие больные, приходившие к могиле святителя Луки, по молитвам получали исцеление…Определением Архиерейского собора 2000 года святитель Лука был причислен к лику святых. Его мощи установлены для поклонения в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.
Сегодня, заговорив об уникальном человеке, недавно жившем среди нас, Марина удивилась реакции владыки:
– Мы не считаем его святым! – категорически возразил он.
– Почему?
– По многим причинам. Одна из них – так называемые «духовные» служители, под рясой коих проступают очертания погон, не имеют право причислять кого бы то ни было к святым. Да, он прожил достойную жизнь врача и сделал много для народа и образования, никто не спорит, но зачем пошел в священники? Иоанн Крондштадтский спас несоизмеримо больше душ. В организованном им Доме трудолюбия обездоленные люди, независимо от вероисповедания, могли найти не только приют и пищу, а и научиться какому-либо ремеслу, получить работу. Праведный Иоанн, которого называли Всероссийским батюшкой, своей верой и любовью к ближним, как солнцем, согревал сердца людей и своими молитвами помогал и исцелял. Преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна, основавшая Марфо-Мариинскую обитель в Москве. За сравнительно недолгий срок своего существования этот островок милосердия смог вернуть к полноценной жизни множество отчаявшихся несчастных людей. Это Святые. И их на Руси больше сотни. А святых со скальпелем не бывает! Святому скальпель не нужен! Ты должна знать, что у каждого хирурга есть свое кладбище! Пирогов спасся – честно своим делом занимался, пусть бы и Войно-Ясенецкий выбрал либо то, либо это. Он действительно был труженик и много принес пользы, но однозначно не святой! – закрыл тему владыка и стал отвечать на вопросы спонсоров. Тех интересовало, откуда сегодня пополняются ряды рабочих для строительства колокольни и хозяйственных построек. И Марина вновь удивилась, узнав, что многие едут сюда прямо из мест заключения, владыка дает всем приют. Кто-то, приехав десять лет назад, раскаялся, воцерковился и уже не помышляет об иной жизни. Кто-то приходит на время и, обретя устойчивость, ищет себя на другом поприще, но сам факт, что «заблудших овец» здесь принимают всех без ограничения, не глядя на статью, по которой отбыли наказание, впечатлил Марину.
Первыми покинули стол гости, мать-игуменья еще долго обсуждала хозяйственные дела с владыкой, и Марина осмелилась спросить, не опасно ли находиться среди бывших уголовников. Он светло и широко улыбнулся.
– Если бы ты знала, с кем мне приходилось общаться и какие исповеди слышать после лихих девяностых! Нет зверя страшнее человека, и удивляюсь, как не сошел с ума тогда от этих историй. Бывало, неделями не мог уснуть. И ни с кем не поделишься – тайна исповеди, или ты не священнослужитель больше. Закалился. И ты, кстати, сильная. Зря тебе кажется, что монастырь не твое, я вижу тебя здесь, подумай.
– И что давало вам силы действительно не сойти с ума?
– Господь, только он. Ну и отстраненность, вы не мне, а Богу исповедуетесь.
Пожив среди монашек, Марина поняла, что не готова посвятить себя размеренной, предсказуемой жизни в монастыре, но владыка рассуждал иначе и однажды после исповеди сказал ей: «Оставайся. Никто в земляных клетках не сидит, ну разве что по собственному желанию! Я вот тоже думаю скоро уединиться. Дострою монастырь, передам в надежные руки и в свою нору, не интересно мне уже здесь, все сделал, что мог».
Марина видела на территории монастыря стоявший на отшибе длинный низкий барак, разделенный частыми узкими дверями, ей сказали: это строилось для схимников – монахов, живущих в полном уединении и затворе и соблюдающих строгие правила. Марина восхитилась внутренней силой владыки, его верой.
Она лежала на узкой кровати в своей келье и не могла уснуть. Мысли возвращались и возвращались снова к предложению владыки. «А что, если и правда поехать домой, закончить все дела и вернуться сюда уже навсегда? Но уже не будешь принадлежать себе. Вставать до восхода солнца, подниматься из-за стола по звонку колокольчика, есть и пить по расписанию, – даже не это самое тяжелое для меня. А то, что буду лишена свободы выбора! И конечно же, послушание. На каждый шаг, на каждое действие следует брать благословение, ты полностью лишен своей воли!»

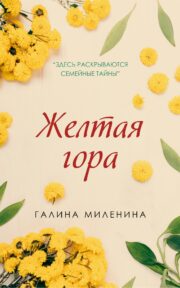
"Желтая гора" отзывы
Отзывы читателей о книге "Желтая гора". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Желтая гора" друзьям в соцсетях.