Мэри Фишер живет в Высокой Башне с двумя детьми, зловредной старухой-матерью, вконец запутавшимся любовником и мрачно-недовольным слугой. У нее такое чувство, что они едят поедом ее живую плоть. От шампанского у Мэри Фишер теперь то и дело случаются неприятности с желудком: вместо того, чтобы, как раньше, смаковать каждый глоточек, она залпом опрокидывает бокал, готовя себя к очередному семейному катаклизму.
Семгу Боббо находит чересчур соленой — у него наблюдается склонность к гипертонии, — и хотя Мэри Фишер пытается втолковать ему, что к семге нельзя относиться как к обычной пересоленной пище, он стоит на своем, и ему неприятно, когда она с аппетитом поглощает то, от чего он сам должен воздерживаться. На столе у них все чаще появляются сэндвичи с тунцом — как у всех нормальных людей.
Мэри Фишер пристально вглядывается в любовь и видит, как все тут сложно и запутанно. Взять хотя бы то обстоятельство, что она попала в мучительную сексуальную зависимость от Боббо — такого рода отношения нередко связывают лучшую подругу героини с героем в романах, сочиненных самой Мэри Фишер, когда вся история только начинается и героя с героиней еще не пронзило возвышающее душу чувство подлинной любви друг к другу, после чего лучшей подруге надо срочно уходить со сцены, или кидаться под поезд, по примеру Анны Карениной, или травиться мышьяком, как мадам Бовари. Такова участь лучших подруг. Но Мэри Фишер не чья-то лучшая подруга; она сама главная героиня своей судьбы — во всяком случае, ей хотелось бы так думать. Чем безраздельнее она владеет телом Боббо, тем она ненасытнее. Больше всего на свете она боится потерять его благосклонность: ради этого она готова терпеть что угодно — терпеть у себя в доме его детей, терпеть собственную мать; готова сама раньше времени превратиться в старуху! Его благосклонность означает еще одну счастливую ночь с ним. Рабская зависимость от секса — трагедия, и в жизни она не менее страшна, чем в книгах. Мэри Фишер понимает это, но что она может с собой поделать?
19
Боббо при всем желании не мог жениться на Мэри Фишер, потому что закон отказывался санкционировать его развод с женой, которую он физически не мог предъявить, но которой, с другой стороны, возможно, уже не было в живых. Вместе с тем закон не видел достаточных оснований для признания факта ее кончины и, как следствие этого, его вдовства. Руфь исчезла, обезумев от горя, утверждал Боббо, после того как он ее бросил, а их дом, в результате несчастного случая, сгорел. И теперь Боббо не желал слышать от Мэри Фишер никаких колкостей в адрес Руфи. Порой он даже сетовал на судьбу и жалел, что она вообще свела его с Мэри Фишер. Прожил бы он как-нибудь и без так называемой большой любви. Не то, чтобы он отказывался от этой любви или хотел ее зачеркнуть; просто в какие-то моменты он начинал понимать, что без нее было бы гораздо спокойнее.
И сама Высокая Башня была уже не та, что раньше. Дети оставляли отпечатки своих грязных пальцев на белой мебели и запускали футбольным мячом в намытые до блеска стекла, и лазили по спинкам диванов и ломали их, и растягивали стеганые покрывала и устраивали «прыжки на батуте», и без конца спотыкались о семейные реликвии. Энди, попытавшийся оседлать добермана, уронил старинные напольные часы, доставшиеся Мэри Фишер от двоюродного дедушки, и они разбились. Мэри Фишер рыдала.
— Это была единственная память о прошлом!
— Подумаешь — вещи! — заявил Боббо.
— Память о прошлом! Ну, уморила! — неожиданно подала голос старая, дурно пахнущая миссис Фишер. Ей снова стали регулярно давать предписанные врачом могадон и валиум, и теперь диагноз «недержание мочи» в полной мере соответствовал действительности. — Будто я не знаю, что твой первый муженек притащил их из лавки старьевщика. А тебе это и подавно известно, нечего прикидываться! Да и то сказать — твой! Ты ж у меня его и украла!
И прислуга злорадно хихикала, а Мэри Фишер, роняя слезы, сидела возле часов с раскуроченными внутренностями — что-то там еще дрожало и покачивалось, и жалобно звенело, что-то еще продолжало жить, как живет каких-то несколько мгновений тельце курицы, когда ей отрубили голову.
Но даже после этого Боббо не хотел позволить, чтобы детей как-то сдерживали, обуздывали — в общем, говоря его языком, ущемляли в правах. Он считал, что бедняжки и без того настрадались. Сам он ни в коей мере не чувствовал себя ответственным за выпавшие на их долю мытарства, но временами держался так, будто всему виной Мэри Фишер. Он стал вдруг невероятно заботливым отцом, с тех пор как они лишились матери.
— Здесь теперь их дом, — говорил он, — значит, и чувствовать они себя должны как дома. А ты их вторая мама — если не перед законом, то перед Богом.
И Мэри Фишер, у которой голова пошла кругом оттого, что губы его прильнули к ее уху, не смогла сказать: «Но я не об этом мечтала. Совсем не об этом!»
Девочка Никола умудрилась сломать великолепный музыкальный центр фирмы «Бэнг-энд-Олуфсен»: прислонилась — и готово. Мэри Фишер уже усвоила, что в таких ситуациях лучше не плакать, однако сдержать протяжного стона не смогла.
— Ничего, купишь новый! — отрезал Боббо. — В конце концов, ты можешь себе это позволить.
А могла ли она? Пытаться искусственно продлить век Высокой Башни и обеспечить там сносные условия для проживания теперь, когда маяк утратил свою изначальную роль — предупреждать моряков об опасных прибрежных скалах, — удовольствие не из дешевых. А ведь нужно платить и литературным агентам, и слугам, и машинисткам, и бухгалтерам — одним словом, содержать не только себя, но еще целую армию самых разных людей, которые пока что мирно покачиваются на волнах ее переменчивого и даже, вполне вероятно, временного успеха. Как любила приговаривать сама Мэри Фишер: «Я стою не больше, чем мой последний роман». А Боббо знал, что ее романы по большому счету не Бог весть чего «стоят», просто имеют коммерческий спрос — существенное различие, в котором она боялась себе признаться: ведь сегодня спрос есть, а завтра его может и не быть.
К тому же, если говорить о вкусах и привычках, то губа у нее была не дура. И пусть Боббо настоял на том, что вино он будет покупать на собственные деньги, для удовлетворения гастрономических претензий Мэри Фишер требовалось долларов сто, как минимум, если это был обычный легкий ужин, и раз в десять больше, если ожидались гости.
Правда, в последнее время гости случались все реже. Те, что нравились Боббо, не нравились Мэри Фишер, и наоборот. В такой ситуации лучше никого не приглашать. А тут еще дети — кстати, у Николы вдруг выросла не по возрасту внушительная грудь. «Видно, в мать пошла», — повторял Боббо. Справедливое наблюдение, ничего не попишешь. Энди и Никола из-за чего-то постоянно ссорились, и крик стоял на весь дом. Редкие гости долго не засиживались.
Боббо в оцепенении замирал перед огромными окнами Высокой Башни, глядя вниз на бьющиеся о скалы морские волны, и предавался раздумьям о жизни и смерти, о высшей справедливости и тайнах бытия, а кто-то тем временем должен был решать практические вопросы, и, кроме Мэри Фишер, заняться этим было некому. Вот на что (с удивлением обнаружила Мэри Фишер) толкает женщину любовь. Быт бурлящим потоком вторгается в жизнь; волны мелких повседневных забот захлестывают зыбучий песок любви. Кровать скрипит по ночам.
У Энди всегда невыносимо пахло от ног. Доберманы, почуяв запах, то и дело срывались с места и с лаем мчались через все этажи Высокой Башни. Ну, и спаниель Гарнес тоже, конечно, вносил свою лепту в общий бедлам — после пожара Боббо подобрал его по соседству с их старым сгоревшим домом. Мало того, что бедный пес пережил страшный шок, он еще подцепил блох, которыми впоследствии поделился с доберманами. Уж они чесались! Шкряб, шкряб, шкряб! По счастью, у доберманов шерсть короткая; зато у спаниелей длинная — шерстью Гарнеса был усеян весь дом. С другой стороны, доберманы — собаки крупные, и от их неистовых почесываний в комнатах днем и ночью сотрясался пол; даже толстые каменные стены, которым Назначено было выдерживать любые штормы, любой напор разбушевавшейся стихии, казалось, нет-нет да и подрагивали среди ночи: собаки чесались и встряхивались, чесались и встряхивались — и так без конца!
Кошка Мерси, которая также была доставлена в башню для воссоединения с членами семьи, испытывала сильное беспокойство и неудовольствие по поводу внезапных перемен и, видимо, поэтому вскоре подружилась со старой миссис Фишер — Боббо усматривал здесь некоторую закономерность. В последнее время у нее появилась привычка вспрыгивать на колени к Мэри Фишер и, уткнувшись носом в ее шелковое платье, воображать себя котенком, сосущим мать. Наверное, в кошачьей слюне есть обесцвечивающий элемент, и на платье у Мэри Фишер оставались пятна, против которых даже химчистка была бессильна. Действуя таким образом, Мерсишка одно за другим вывела из строя несколько лучших нарядов Мэри Фишер.
— Животное травмировано, — невозмутимо пояснял Боббо. — Со временем это пройдет. Давай ей побольше молока!
— «Со временем» — это когда? Сколько еще ждать?
— Год, два, три, — пожал плечами Боббо.
Каждую неделю Боббо на два дня уезжал в город поработать в офисе. Покидать Мэри Фишер больше, чем на два дня, ему не хотелось. Он не испытывал доверия к Гарсиа. В остальные дни он работал дома, безответственно переложив изрядную долю своих полномочий на плечи сотрудников. Среди его клиентов благодаря Мэри Фишер теперь было много писателей — если и не великого дарования, то завидного достатка.
В целом Боббо был доволен жизнью. Ему удалось получить более или менее то, к чему он стремился. Он всегда хотел иметь такую семью, такой дом, такой уровень жизни. Такую любовницу — богачку, красавицу, знаменитость, которая его обожает, только что не молится на него. А если он по тем или иным причинам бывал ею недоволен, он на время отлучал ее от своего тела и принимался расхваливать других очаровательных и, как правило, более молодых женщин, с которыми его сводила судьба, и таким нехитрым образом заставлял ее, испуганную и растерянную, в очередной раз пасть к его ногам. В последнее время она стала неважно выглядеть и сама об этом знала. Теперь, если у нее ломался ноготь, она не давала себе труда аккуратно подпилить его и покрыть защитным слоем лака, а подносила нервно подрагивающий палец ко рту и, ухватив зубами надломленный кончик, обгрызала ноготь под корень.

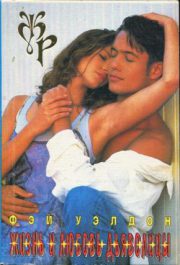
"Жизнь и любовь дьяволицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь и любовь дьяволицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь и любовь дьяволицы" друзьям в соцсетях.