Гонорар проели вместе с родителями в кафе - как раз хватило посидеть вечер и отметить. Вторую статью Инга отдала Паше в субботу на таком же мятом листочке - и точно так же, без публичного разбора, Паша поставил текст в газету.
Так и пошло. Каждые две недели от нескольких строк до половины полосы были заняты материалами Инги. И все равно девочка понимала, что пишет хуже других. Несколько лет спустя Инга нашла этому объяснение - она не умела искать жареное и желтое, пользоваться приемами завлечения читателей, делать броские заголовки в стиле «Великая актриса умерла», если речь шла о бенефисе в роли Дездемоны, не умела додумывать и подавать факты в правильном с точки зрения «МК» свете. Ингины статьи были похожи на политкорректные заметки-констатации в районных газетах: «Префект посетил выставку картин» или: «Муниципальное собрание наградило призеров конкурса». Тем не менее, место находилось и для ее статей.
Может, их печатали для разнообразия, может, благодаря хорошему стилю Инги, может, ее просто опекали, как самую младшую.
Через полгода Инга перестала ходить в СЮР. Как любое неинтересное занятие, он отошел на второй план. Сначала пропустила занятие - приболела, потом были билеты в театр, потом позвали на день рождения, потом готовилась к контрольной, а потом и вовсе перестала про него вспоминать. В школе появилась активная учительница английского, связанная с «The English», приложением к газете для учителей «Первое сентября». Поскольку все уже знали про Ингины журналистские достижения, попробовать написать в «The English» ей предложили сразу. Тут подоспела поездка в Лондон (школа была языковой и очень хорошей), и Инга, не стесняясь, опрашивала англичан прямо на Трафальгарской площади - что они знают о России, как относятся к русским и хотят ли поехать в Москву в качестве туристов. Через две недели после возвращения одноклассники читали в свежем номере целый разворот, написанный Ингой, - общие впечатления от поездки, колонка об одежде лондонской молодежи и результаты опроса о России. Материал был признан лучшим, и Инга получила регулярную работу - каждую неделю сдавала статьи об английских праздниках и традициях, обзоры английской классики и репортажи о жизни своей школы. Гонорары были примерно такие же, как в «Глаголе», и Инга получила возможность приглашать маму в театр, покупать билеты за свои деньги, а за год накопила на подарок - комплект из серебра с маминым любимым агатом.
Мама носила серьги и кольцо, не снимая, и всем рассказывала, что это дочка сама заработала. Подруги ахали.
В неполные четырнадцать лет Инге предложили место в окружной газете. То есть фактически она стала штатным журналистом на полтора года раньше, чем юридически, - КЗОТ разрешал оформить ее с пятнадцати лет. До пятнадцати она трудилась, доверяя работодателям, - и надо сказать, обмануть девчонку не решились, хотя про генерального директора шла очень дурная слава.
Ничего серьезного Инге, конечно, не поручали, но она отвечала за все мелкие рубрики типа молодежной жизни, районных праздников, выступлений детских коллективов, открытий мелких выставок и школьных музеев. На такие мероприятия серьезные взрослые журналисты ездить не хотели, да им хватало работы с посещением собраний, интервьюированием властей и освещением крупных событий культурной и общественной жизни. До Ингиного появления заметки о тех же спортивных играх «Дворовый футбол» писались по телефону - в управе брали сведения, где это будет и кто участвует, а потом приклеивалась пара-тройка шаблонных фраз: «Было очень весело», «Детям и родителям вручили призы от управы» и даже жуткое: «Вот так в нашем районе ведется работа с подростками».
Инга сделала рубрики живыми и интересными - она писала о забавных случаях, которые происходили во время школьных и дворовых праздников, брала маленькие интервью у пришедших ветеранов или у opганизаторов, сама фотографировала нарядных детишек и накрытые столы - в общем, довольно быстро стала в газете нужным человеком. И хотя девушке по-прежнему не доверяли важные темы, ее стали ценить. Появилась рубрика «Прошу слова», которую очень полюбили жители, затем рубрики «Хочу знать» и «Проходя мимо». Раз в месяц Инга получала сумму, превышавшую не только повышенную стипендию хорошего вуза, но приближавшуюся к зарплате продавца средней руки.
Родителей это и восхищало и пугало.
- Если что - ты теперь и без нас проживешь, - говаривал отец, - на кусок хлеба сама себе заработаешь, да еще и на масло хватит.
Шутил он или думал так серьезно, Инга не знала. Они жили не богато, но и не бедно, не экономили на еде, могли покушать хорошую одежду, раз в год, летом, ездили отдыхать, и еще на каникулах, со школой, ездила за границу Инга, но норковых шуб, бриллиантов, черной икры в банках в доме не водилось. Ингина зарплата не вносилась в общий бюджет - девушка тратила ее целиком на свои развлечения и подарки родителям, а карманные деньги на обеды ей оставляли по-прежнему. Вроде как взрослой не считали.
Инга тем временем уже научилась ловко пользоваться своей внешностью и перестала раздражаться, что в пятнадцать лет выглядит на одиннадцать - никакой женственности, никаких форм и округлостей, все та же детская мордочка с веснушками. Она очень нравилась взрослым, причем нужным взрослым - директорам школ и садов, завучам, депутатам муниципального собрания, мелким чиновникам, тренерам и так далее. Инга с редакционным диктофоном легко просачивалась в гущу событий, находила самого главного и с трогательной улыбкой интересовалась:
- Простите, пожалуйста, вы не согласитесь рассказать мне о…
И с гордостью представлялась:
- Корреспондент газеты «Вести Северного округа» Инга Ермакова.
Ей доставляло огромное удовольствие, когда кто-нибудь удивлялся:
- Надо же, совсем еще девочка, а уже корреспондент!
Инга краснела от радости и скромно смотрела в пол.
- Мне уже пятнадцать, - сообщала она.
Практически везде девушку угощали сладким, а на всех соревнованиях или конкурсах дарили сувениры из призового фонда - почему-то всегда оставалось лишнее. И большинство высокопоставленных (по меркам газеты, района, округа и Инги) людей часами болтали с Ингой, рассказывая ей не только то, что она просила, но и пускаясь в воспоминания о жизни, о путешествиях, о старых друзьях, о школьных шалостях.
Все не нужное для статей Инга записывала в отдельную тетрадку (с появлением компьютера - в файл).
У нее была мечта написать книгу, в которой сплетется не один десяток судеб. И как можно скорее, чтобы все удивлялись:
- Надо же, совсем еще ребенок, а уже писатель!
Глава 3
В кабинку постучали.
- Инга! Тебя генеральный искал, там что-то про конкурс.
- Иду! - отозвалась девушка и вытерла слезы.
Ее ждала Галя.
- Галя, если что, я на обеде.
- Не хочешь пред светлы очи? - улыбнулась верстальщица.
- Не хочу.
Инга не успела дописать заявление и боялась, что второй раз идти к начальству у нее не хватит решимости.
- Ин, уйду я скоро, - сказала Галя, - не могу больше так работать. Это немыслимо - тридцать две полосы за неделю, сто раз переверстывать, правку вносить, да еще Полина постоянно фотографии меняет в последний момент.
Сколько раз уже с ней ругалась!
- Она не виновата, что толку с ней ругаться. Это наш любит выкидывать фотографии с полосы, да еще каждый раз Полине вычитывать, что, дескать, плохие, - объяснила Инга, - в последний раз вообще выдал шедевр по этому поводу.
- Какой?
- Заявил, что иллюстрации к статье про зимние забавы безобразные, качество ужасное, где, спрашивает, вы, Полина, их взяли? Полина отвечает: «В бесплатном фотобанке», - как будто он сам не знает, что на платные мы не подписаны. Он подумал-подумал и объявил: раз в бесплатных фотобанках не нашлось хороших фотографий, завтра суббота, как раз дети будут на горках кататься и в снежки играть - пусть Полина пойдет да поснимает с натуры. Ей же в выходной больше нечем заняться.
- Козел! - честно прокомментировала Галя.
- Я этого не слышала.
- А я этого не говорила.
Инга знала, что их генеральный на самом деле такая же пешка, как и они. В издательском доме «Глубинка» была следующая иерархия: владелец, он же генеральный директор всего издательского дома, он же царь и бог, он же владелец того самого замка в Хорватии и виновник проблем с зарплатой и бюджетом, затем генеральные директора издательских домов внутри «Глубинки», затем главные редакторы журналов.
Проект «Венера» был новым, ведущим, самым доходным и рейтинговым, поэтому его выделили в отдельный издательский дом со странным названием «Азарт». И назначили на пост генерального директора молодого парня из далекого городка. Платили ему копейки - раза в четыре меньше, чем по отрасли. Эта политика экономии применялась в «Глубинке» с большим успехом - брали перспективных и талантливых провинциалов, выжимали из них по максимуму, а потом неожиданно увольняли, как только люди начинали заикаться об обещанных прибавках и демонстрировать полученные результаты. Инга знала, что они с генеральным директором «Азарта» - разменные фигуры и могут попытаться извлечь из своего положения единственный плюс - бесценный опыт. Ее раздражало другое - Антон Андреевич делал вид, что не понимает ситуации, изображал из себя большого начальника, любил реверансы и почтение, выдавал спускаемые сверху указания за свои собственные выводы. Пока Инга не разобралась в структуре, она искренне спорила с Антоном Андреевичем, объясняла ему необходимость выделения тех или иных средств и поражалась нелогичности его доводов. Антон Андреевич легко давал щедрые обещания - только потом Инга узнала, что он не рассчитывал задержаться на этом посту. А преемник Антона Андреевича начал работу со следующей фразы:

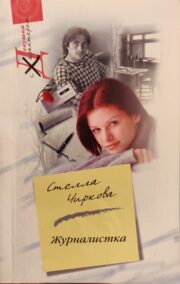
"Журналистка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Журналистка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Журналистка" друзьям в соцсетях.